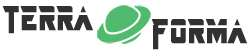Калинов мост.
— Ноги пошире ставь, — инструктировал Антипка Захаров. – И покрепче рукоятку держи… Куда замахиваешься!? Ноги себе отрубить хошь?
Я послушно вернул топор на уровень чуточку выше пояса, озадаченно глядя на пухлощекого фермера.
— Чего зыркаешь? – не понял тот. – Это вот в кино из-за головы да с разворота… лихачат. А ты же не в кино, да и неумеха. Промазать можешь. Как топор тогда остановишь, а?
Я понимающе кивнул. Мягко Антипка выразился: уважил меня, значит. Пожаловался ему как-то я на тонкость своих ушей. Он только хохотнул в ответ, а гляди ж ты, запомнил.
— Это я еще колун тебе в руки не даю, — пояснил фермер. — Ты сперва руку набей, потом уж и замахиваться можно. Вот почувствуешь, что носок уже почти в дерево входит, тогда и лупи… Понял?
— Понял, — снова кивнул я и поспешно нанес свой первый в жизни удар.
Смотрела на меня все деревня. Вернее, так уж мне казалось. Козлякин Иван Никодимыч, конюх — свое на сегодня оттрубил, сидит теперь, в усы ухмыляется. Женушка его тут же, Аля — рот до ушей. Даже детки о чем-то шепчутся, тоже ведь наверняка по мою душу. И Левинсон, старый чертяка, сияет себе преспокойно. Уж он-то как никто понимает, каково мне сейчас.
Впрочем, я знал, на что шёл. Да и был ли выбор?
***
Болезнь поразила планету незаметно.
«Бессимптомное заражение». Когда-то это звучало почти ласково, словно колыбельная в придачу к белому флагу. Ну, думали мы, вирус и вирус, а чего бояться, коли он даже не кусается? Забавные были времена. Недолгие только. Поздно поняли мы — ох, не с миром пожаловала диковинная хворь.
Так уж получилось, что скороспелые цифры никого особенно не взволновали. Подскочил уровень смертности – что с того? Можно подумать, типичному sapiens есть дело до гуманитарной повестки. Друзья-родные целы? Беда в лицо не оскалилась? Ну и ладно, ну и живем…
А потом у моего друга Роди сестра умерла. Глупо как-то умерла: телефон разбила, разрыдалась, а через пару минут — за сердце. И слегла. Да и сам Родя на следующее же утро.
А еще через день и по центральным каналам сообщили о лавине несчастных случаев. Приказали оставаться дома до выяснения подробностей. Убедительно (или же не очень) призвали не волноваться. Слыхал я такое. Но судьба Роди отбила охоту спорить. Теперь, оглядываясь в прошлое, я так и не могу понять, спасла ли эта покорность мою невеселую жизнь.
***
— Посильнее давай, — отдаленно напоминая некрасовского воеводу, Антипка деловито оглядывал лезвие, робко целующее древесину. Я ударил посильнее. Послышался смех.
— Эй, Коля, — крикнул Никодимыч, — ты с этим поленом не либеральничай! Оно те не меньшинство, вон смотри, сколько за сараем лежит! – и конюх гордо покосился на Левинсона. Ишь, нахватался.
Левинсон, или, как его по батюшке именовали, Аркадий Петрович, тоже из Москвы прибыл. Тип возмутительный. Лысый мужик лет пятидесяти, с неприметными очками и внушительным жирком, да еще и философ. Взаправдашний, с красным философским дипломом.
Родных у него не было. Родители скончались задолго до эпидемии, братьев и сестер не имелось вовсе, а что до собственной семьи, так он с Ницше и Канта пример брал.
— Всякий порядочный философ, — объяснял он мне при первой же нашей беседе, — склонен чувствовать себя свободным, следовательно, лишь собственным законом себя же мерить. Вот у меня свобода такая и есть. Да и оглянись на историю! Много знаешь женатых философов?
Сказать по правде, я вообще философов не особенно знал, а уж про их брачную историю понятия не имел ни малейшего. Но то, что ни одна жена не смогла бы выдержать Левинсона, меня удивило не особо.
— То-то, — поднял палец вверх Аркадий Петрович, неправильно поняв мое молчание. – Потому что порядочные философы с Истиной повенчаны, вот как.
Темнил что-то Левинсон. Или и впрямь столь редкостный чудак? Я не знал и этого: понимал только, что было в нем что-то. Как-никак, а эпидемию он пережить сумел.
***
Когда спустилась лавина смертей, в крупных городах организовали обязательное тестирование. Итоги его поразили всех. И большинство – наповал.
Во-первых, в крови горожан действительно обнаружили следы доселе невиданной болезни. Во-вторых, выяснилось, что болен ей, по сути, почти каждый. Неизвестно, что творилось в деревнях, или же в других странах, но чудовищная цепкость заразы не оставляла места особым надеждам. В-третьих, по первичным данным выходило, что многие подхватили поганую хворь уже давно.
Ну, и в-четвертых. Больше половины тестируемых умерло, едва узнав результаты.
Процесс попытались замять: но цепочку домино не обращают вспять. Редкий человек мог надеяться стать счастливой костяшкой.
Я до сих пор не знал, что на самом деле творил тот чудовищный вирус. В последние дни телевидения экран жалко бормотал, что сам по себе штамм не смертельный. Он лишь дает сигнал, поджигает какой-то огонёк в невидимой и неясной системе, а ключ к этой системе скрыт где-то в самых глубинах души. Конечно, доктора изъяснялись иначе, стыдливо опускали любые сентенции про душу, но смысла от этой понятной уловки не прибавлялось ни на грош. Возможно, всему охватившему планету безумию и имелось мудреное объяснение через гормоны, нейроны, таксоны и прочие пакости, но никто этим объяснением не владел.
Приходилось верить глазам. А глаза говорили, что умирали несчастные. Угасали рассерженные. Увядали капризные, изнеженные, привыкшие к комфорту и уверенные, что жизнь справедлива и хороша. Уходили озлобленные, обездоленные, мстительные, потерянные, напуганные до смерти. И число таковых росло с каждой минутой.
Ядовитая сила болезни настигала всех, кто не мог вынести жизни. Она выкашивала семьи, лилась по узам любви и дружбы, словно кровь по сосудам. Она выбирала тех, кто сдавался ей, она испытывала нас, инспектировала наши чувства: но что именно нельзя было чувствовать, до конца не знал никто.
***
— Да, — вещал Левинсон, когда мы всем миром сидели у костра. – Судя по всему, болезнь обретает смертоносные свойства только в определенной среде. Очевидно, это как-то завязано на нервной системе, и определенные психические процессы оказываются физически губительны.
Я тут же вспомнил Рамиля, сокурсника своего. За такие слова тот и наорать мог. Его совершенно бесили любые попытки объяснить духовное через физическое; Родю он пережил на полтора дня.
— Я думаю, это все стресс, — выпалил Васька Козлякин, прыткий, белобрысый паренёк лет пятнадцати. – Кортезол в крови подскакивает, и капут.
— Где это ты таких слов набрался? – Аля, мама Козлякина, нахмурилась. – Опять у Левинсона книжку стащил?
— Ага, — просиял бесстыдный Васька. – «Психология стресса» называется. Автор Сапольски.
— Юрка, — взволнованная Аля потрясла конюха за плечо, — сделай что-нибудь! У тебя сын воришкой растет, да еще и польское что-то читает. Аркадий Петрович, хоть вы ему скажите!
Левинсон довольно улыбался.
— А что говорить? Я не для одного себя из Москвы книжки тащил. Пусть читает, чего уж теперь страшиться?
Парнишка кивнул философу, в глазах сияло обожание.
— Но про кортезол ты зря, — тут же ввернул вредный Аркадий. – Будь все так просто, медики наверняка хоть что-нибудь придумали бы. А они не только вакцины никакой состряпать не успели, но и сами абсолютным большинством богу душу отдали. Да и потом, друг мой так же думал. Валерьянкой лечился… упокой его душу, господи.
Мы помолчали, и я с тревогой поглядел на Аркадия. Мы все остерегались вспоминать об умерших, тем паче о близких. Глаза Левинсона отправились в какие-то странствия: далекие, а значит, опасные. А я все ловил их — и никак не мог поймать, как не мог и вспомнить, отчего был так всегда уверен, что у него не было друзей.
— Вот вы Бога к месту вспомнили, — задумчиво обронила Аля. – Я и говорю, дело в вере. Кто Бога любит, тот и спасается.
Я не удержался и фыркнул. Не сказать, что так уж не любо было мне христианство, но не верил я, что называется, ни капельки. Мне как-то Левинсон шутку про расселовский чайник рассказал, так я полдня смеялся.
— Чё? – лаконично осведомился Антипка. – Чем те мудрость бабья не пришлась?
— Да так… — я смущенно улыбнулся. Действительно: про Бога многие теперь вспоминали. Статистику поднимать было некому, но слухи летали о монастырях, что христианских, что буддийских, что вообще диковинных, которые словно и не заметили болезни. Да и в миру верующим вроде легче было. Вот только…
— Рамиль, приятель мой, — вздохнул я. — Верил. Глубоко. Истово. Не в Бога, правда, в Аллаха, но какая разница…
— Помолчи-ка лучше, — посоветовал Левинсон, и я понял, что он совершенно прав.
А костру-то в тот вечер дали жизнь мои усилия. И пусть все знали, что я пытался колоть поленья пополам. Щепки так щепки.
***
Когда вирус перешел в наступление, вся инфрастуктура жалобно взвыла и забилась в судорогах. Людям передалось ее настроение: и в тот же день по городу ударила вторая волна смертей. Процесс повторялся снова и снова. В мгновение ока мы остались без электричества, Интернета, воды, без всего. Да и сколько осталось нас, тоже толком никто не знал. Можно было выходить на улицу, вооружаться примитивным транспортом и проверять. Так я узнал про родителей. И про друзей.
Сложно сказать, как я это пережил. Наверное, останься в городе еще хоть на сутки, проверь еще три-четыре адреса, вирус бы и меня достал. Но откуда-то в мыслях возникла ясность: я понял, что смогу выжить в деревне. Эпидемия не трогала ни растения, ни животных.
Не раздумывая больше ни о чем, я собрал пожитки. Почти все оставил: машины ведь не было. Чуть не расцеловал свой навороченный велосипед… и направился в путь.
По дороге затравленно неслись редкие автомобили, но подсесть никто не предложил. Возможно, все сиденья были забиты вещами. А может, меня просто никто не видел. В любом случае, мне было бы жаль бросать свой верный Стелс.
За пару часов я преодолел городскую черту. Посыпались оспинами населенные пункты. Но то были неправильные поселки: городские прихлебатели, они привыкли сосать его электричество, газ, жизнь. Это было не то! Все не то. Наверное, добрый ангел не выдержал вселенского безобразия и послал мне единственно верную мысль — остановиться, слопать пару яблок из рюкзака и упасть в сон.
Ночью меня подобрал Левинсон. Ворчал невероятно. Чтобы освободить мне место, ему пришлось выкинуть из машины несколько книг.
2.
Аркадий Петрович знал о трагедии ненамного больше меня. Но, кажется, к выводам пришел сходным.
— В городе не искал деревню? – спросил он у меня, когда я очутился в салоне.
Я решил, что еще не проснулся.
— Нет…
— Ну и правильно… Слыхал я про Терехово… Полчаса от Кремля. Еще при Путине деревня стояла. Там дома старые, огородики настоящие, люди живые. Были… Но урбанизацию ведь не остановить, все так говорили. Да и субурбанизацию тоже. Что они скажут теперь? Проведал, так чуть слезы не навернулись…
И тут он расхохотался. Ну точно псих.
— Прости, если напугал, — добавил он очень серьезно. – Это защитный механизм. Я остерегаюсь долго грустить.
Так я и познакомился с Левинсоном.
Подмосковье умирало: словно бы остановилось столичное сердце. Мы мчались на север, но лишь деревянные пустыни встречали нас вместо оазисов. Отчаяние подступало медленно: я отстреливался от него последней обоймой надежды. Левинсон убедил меня штурмовать обезлюдевшие магазины, он же научил воровать бензин с брошенных заправок. Это оказалось не сложнее, чем добывать воду с колодца: впрочем, к чему этот фарс в моей речи? Можно подумать, я видел когда-нибудь колодцы.
…
Новая страница началась с мычания: то был звук жизни. Через открытое окно машины я увидел корову. Обычную такую: черную, с белыми пятнами, грязную, тощую и несчастную. Мы добрались…
— Постой! – буркнул Левинсон, но я уже дёргал за дверь. Аркадий остановил авто. – Ну ладно, — добавил он устало, — выходи.
Бурёнка лежала на унылой траве; в осоловевших глазах одиночество и тишь. Знакомый, хрипловатый голос встал вдруг на защиту ее несуществующих мыслей.
— Погляди на стадо, которое пасется около тебя, — предлагал голос. — Оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно жует траву, отдыхает, переваривает пищу, и так с утра до ночи и изо дня в день… Человек может, пожалуй, спросить животное: «Почему ты мне ничего не говоришь о твоем счастье, а только смотришь на меня?» Животное не прочь ответить и сказать: «Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать», — но тут же оно забывает и этот ответ, и молчит, немало удивляя человека…
Я оглянулся в поисках источника звука. Им оказался Левинсон.
— Это какая-нибудь даосская мудрость?
— Почти, — пожал плечами философ[1]. – Нужно ехать дальше. Здесь есть жизнь, но нет людей. Ты городской, я тоже. Мы не выживем.
— А… её? – с ужасом поглядел я на корову.
— Она не влезет в машину.
— А на прицепе?
— Где возьмём?
Я не знал.
— Время дорого, — заявил бессердечный человек. – Едем.
Я поглядел последний раз в глаза бурёнки. Неужели в них и вправду не было несчастья? Быть может, стоило облегчить ей страдания… но страдала ли она?
Удаляясь от Москвы, мы постепенно вступали в царство угасающих деревень, большей частью уже мертвых. В одной жители выстроили настоящую баррикаду: они, видимо, надеялись, что вирус обошел их стороной. Туда мы даже не заглядывали. Еще в одной поселились городские: те приняли нас настороженно. Аркадий шепнул мне: «пойдём отсюда». Спорить я не стал. Чутьё пока не довело меня до обрыва, и я начинал все беззастенчивее доверять ему.
Через пару дней мы добрались до нового дома.
***
Деревня была маленькой, но она была. Целых пятнадцать семей. Дворы, козы, коровы, мелкие заборчики – Левинсон называл такие штакетником.
Несколько домиков пустовало. Как мы с Левинсоном поняли, именно эта деревня перенесла болезнь лучше прочих. В краю ферм и дорог все шло не волнами, а лавинами: целая деревня могла жить нормально, пока не вымирала вся разом. Но случались и те, кто частично выдерживал удар. В этой деревне выжило семь семей. Еще трое, подобно мне, пережили даже гибель родных. Редкие выжившие подтягивались со всей округи, волоча за собой вдруг ставший изобильным скот.
Нашими с Левинсоном руками до оазиса дотянулся и угасающий город. Поселили нас безжалостно — в одну избу, аккурат между старожилами, коренными блюстителями этой земли – Захаровыми и Козлякиными. Им и было поручено научить нас (по сути, меня) всему, что должен уметь деревенский — сталкер нового времени.
Приняли без радости, коей встречали первых гостей, но спокойно. «Раз добрался досюда, — объяснял мне потом местный староста Курыкин, — стало быть, человек неплохой». Они уже обзавелись определенной философией. Как подметил Левинсон, местная мудрость буквально исчерпывалась греческой сентенцией «Ничего сверх меры». Береглись любых сильных чувств, эмоций, захватывающих с головой. В увеселения входили бережно, — даже пиво пили так, словно бы это был спирт: не все, изредка, мелкими глотками и исключительно в медицинских целях, чтобы выдержать жизнь. Под запрет попадали и буйные страсти. Общий опыт прибывших из разных деревень гласил, что спокойный, проверенный временем брак выживает там, где нарядные цветы чувств сгорают в единый миг. Левинсон солидно подметил, что от сильной радости легко утратить равновесие и рухнуть в объятия неизвестности. Мне сложно было судить, и я старался просто не думать об этом: тем более, что все мысли отнимала работа. Но одного забыть не мог.
Той бурёнки. Кажется, она поселилась где-то в моем мозгу, рядом с вирусом, и по вечерам читала мне философские лекции. «Оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня».
Я теперь тоже не знал прошлого. Было решено, что его у меня не было: ведь за все долгие московские дни я не научился ничему, что имело отныне значение. Ладно чёртов топор – невелика задача. Но я не знал ничего. Ни какие грибы можно собирать, ни какими газетами зачинать костёр, ни как делать заготовки, ни даже как безопасно топить печку. Я чувствовал себя Маугли, невежественным дикарем, попавшим в большой, сложный и кипящий постоянной работой мир. Но выбирать не приходилось: Маугли должен был стать человеком.
— Тебе еще повезло, что поздняя осень, — пожурил меня легонько Антипка в очередной полыхающий вечер. — Вот доживешь до лета, тогда поймешь, что такое настоящая жизнь.
— Глядишь, даже и выйдет из тебя нормальный мужик, — добавил Никодимыч.
Чем-то я приглянулся деревенским: не было в словах их ни яда, ни укоризны.
— Да лето ему не труднее осени встанет. Труд ведь разный бывает, — заметил вдруг Левинсон. – Коля по пирамиде жизни сейчас спускается. Тонкое это дело – спуститься, да шею не свернуть.
— Мудрёно, Петрович, — не то восхитился, не то не понял конюх.
— Вот ты, небось, думал, что легко городским, — пояснил Аркадий. — На всем готовом жить, в масле кататься? Да ведь это как жить на верхушке гигантской пирамиды! Шаг влево не туда сделал – и все полетело. И зацепиться не за что – ты почвы под собой не чувствуешь, ты даже не видишь, что там внизу. Не знаешь, как все работает. Даже примерно не представляешь, почему на вершине так, как там есть. Это наш Коля так и жил. И не выбирал он никогда на эту пирамиду залезать, просто родился уже там. А спускаться страшно…
Конюх призавис, а Антип вздохнул только.
— Да, — говорит, — тяжко. Чё, Колька, вправду мира не понимаешь совсем?
И тогда я рассказал им, что не понимаю даже толком, каким же чудом возник все же язык между человеком и компьютером. Я могу говорить на этом языке, давать указания и команды. Но основ, того, как вообще все это возможно и почему, я не знаю. Ни в чем.
— А, ну так основ и мы не знаем, — удивленно воскликнул Никодимыч. – Чего голову забивать?
В тот же вечер я признался им, что поступил на ВМК только потому, что любил в детстве стрелялки.
***
А через неделю все резко изменилось.
Я заготавливал дрова, когда помогавший чинить крышу Митька Ковылёв, (рыжий друг Козлякина Васьки), вдруг взмахнул инструментом и завопил:
— Люди! Люди! На дороге!
«Неужели кто-то из моих друзей…» — пронеслась в голове дикая мысль, — «Из тех, кого я проверить не успел…»
Но нет: они приближались, двое и совсем незнакомые. Средних лет мужчина благородного вида, и молодая девушка, темноволосая, ростом чуть пониже меня.
Понеслись их встречать дети, следом вышел староста Курыкин. Подтянулась и семья Ковылёвых. Я тоже хотел, но Антипка гаркнул:
— А дрова кто?… Что, новеньких вся деревня окружать станет? Потом познакомишься!
Я бросил на них извиняющийся взгляд. Конечно, они не заметили. Повезло, что я хоть по полену попал.
3.
Его звали Юрием Сергеевичем, ее – Лени. Ему оказалось аж пятьдесят семь, а вот ей – двадцать три. Дочка.
Поселили их рядом с нами, под опеку опытного Антипки. В сердце приятно кольнуло, я был рад новым гостям. Глядишь, и к костерку нашему неизменному притянутся.
Так и вышло. Сгинула суета очередного денька, взвилась без возврата прочь языками лучистого пламени, настал вечер приветствий. Познакомиться полдеревни пришло, не только с соседних дворов.
— Мы из Хорошилова добирались, — объяснял Юрий Сергеевич. Говорил он негромко, но очень чётко, словно диктором на радио работал. – Знаете?
Антипка развел руками, но Василий Тучин, широченный мужик, в котором пропадал недурной оперный бас, прогремел с неудержимой приветливостью:
— А то!… Я сам с севера досюда пёр. Из Косторного. Далёк ж путь вы проделали, коли на ногах!
— Косторное… — Юрий Сергеевич виновато опустил голову, — видимо, мы как-то мимо прошли… Мы вообще-то питерские. В Хорошилово добрались, когда все это началось. Тогда подумали, что спасены. Там тоже двор чудный, животинки все эти, да и люди хорошие. Три недели прожили в спокойствии. Но потом… потом умерла девчушка одна, маленькая совсем…
— И за ней вся деревня, — подытожил Левинсон, разрывая подступившую тишину.
— Да, — просто сказал гость.
Я поглядел на Лени. Девушка рассеянно изучала костер. Бледная и усталая, она смутно напоминала мне кого-то, кого-то хорошего, из прошлой жизни. Я не знал, где это Хорошилово, но Васькино восхищение дорогого стоило. Вряд ли у них было много запасов. И все же они добрались. Шли, не зная, есть ли на земле еще хоть одна живая точка, шли, в надежде выиграть у этого равнодушного мира еще хоть один денёк. Я представил, что на их месте набросился бы теперь на еду, как дикарь. Но они сохранили в себе достоинство, будто даже пронесли за многие мили строгий аромат северной столицы…
А о родне их никто не спросил. Запретная тема.
…
Костер потух, и я вдруг понял, что все разошлись. Остался Левинсон, оживленно обсуждавший с Юрием Сергеевичем что-то про буддистов, и Лени, все так же задумчиво принимающая окружающий мир.
— Не скучаешь? – спросил я, тут же раскаявшись за пошлую фразу.
— Нет, — она улыбнулась. Просто, умиротворенно.
— Я в философии не шибко смыслю. А твой отец, стало быть, любитель?
— Пожалуй. Он ученый-математик, достаточно крупный и известный. Про философию точно не скажу, но в школе он больше всего любил литературу. Говорил мне, что пошел бы заниматься гуманитарными науками, если бы только в СССР была свобода слова.
Лени строила длинные предложения легко и непринужденно, безо всяких «шибко». Я вдруг подумал, что рад вновь услышать такую вот городскую речь.
— Математик не по своей воле… — протянул я. – Понимаю. Я на ВМК учился, в МГУ. Меня, кстати, Коля зовут.
— Очень приятно.
Своё имя не сказала, оно и верно, к чему повторяться.
— А почему ты Лени? – мне захотелось немножко покрасоваться. – В честь Рифеншталь?
В глазах девушки сверкнуло весёлое пламя.
— А вот и нет. Вообще-то, я даже фильма ее ни одного не видела. А потому к чему бы тут честь? Мне просто звучание понравилось. Так-то я Лена.
— Я тоже не видел, — быстро согласился я. – Знаешь, у меня в детстве любимая книжка была — «Энциклопедия бесполезной информации». Там никакой общей темы, просто куча вырванных из контекста фактов. Уже тогда я понял, что мне нравится знать слова, о которых я ничего толком не знаю. Вот и с Рифеншталь как раз так.
Она рассмеялась.
— Мне вообще кажется, — разошелся я, — что так многие любят. И некоторые ниши придуманы специально, чтобы знать, не зная. «Война и мир» там, Шекспир. Все наслышаны, а понимать – незачем.
Уже завершая предложение, я подумал, что скоро докачусь до радостных восклицаний в духе «дважды два – четыре». Вот до чего доводит жизнь в деревне. Чтобы снова почувствовать себя интеллигентом, я уже готов нести любую чушь.
— Наверное, я роняю сейчас культурное достоинство всего Петербурга, но Шекспира я тоже не читала, — созналась Лени. – Хотя это и не мешает мне знать сюжеты его трагедий.
Я что-то неуклюже пошутил про великую силу Брифли и как-то вдруг понял, что разговор потух вместе с костром. Очень кстати накатила зевота. Лени тут же подхватила этот всеобъемлющий сонный посыл. Изумительно, что она вообще держалась после изнурительного странствия. Наверное, просто лень было покидать теплое местечко. Я помог ей подняться.
— Сплю уже, Петрович, — сказал Левинсону, наслаждаясь простотой деревенских обращений. – Пойду.
— Да, хорошо, — согласился машинально Юрий Сергеевич, но Левинсон встрял:
— Верно, нам уж всем пора. Договорим еще – завтра, ну или когда получится. Теперь терпение – главный закон. Всего приходится ждать.
Мы дружно кивнули и направились к нашим домикам. Левинсон вызвался проверить, все ли в порядке у новеньких с обустройством, а я побрел к Морфею напрямик.
В голове еще вертелись хвостики случившихся и придуманных разговоров, когда мой сосед занял место на соседней кровати.
— Приятный человек, — сообщил он, устроившись.
— Да… И дочка у него хорошая.
— Ооо… — Левинсон отвратительно вздохнул. – Ты головы, главное, не теряй. Сейчас не время для всепоглощающих вихрей. Я все понимаю. Оба молодые, оба городские, да и, — как ты там говорил? – сеттинг располагающий. Я вас специально сразу свел, чтобы вы пофантазировать не успели.
— Чего?
— Обычно быстро заставить женщину много говорить – хороший способ избежать последующих безумств.
Жаль, что этот доморощенный философ не мог видеть всей глубины возмущения на моем лице.
— Заткнись, — буркнул я. – У меня тоже голова на плечах есть.
— Хотелось бы верить. Просто помни, мы тут все на грани ходим, да еще и общей нитью повязаны.
— Уж не забуду.
— Ты хоть в этих делах не зеленый? — спросил снова отвратительный Левинсон.
Я промолчал; ведь даже при нашей самой первой беседе я не поверил его сказу про венчание с истиной лишь наполовину. Правда же была в том, что в детстве я и сам ценил апостольские идеалы, и даже обещание дал себе жить по Святому Павлу: любить или по совести, или никак. Потом и нахлынули сомнения, но случая все испортить как-то до сих пор не представилось.
***
Тягуче и торжественно тянулись рассудительные будни, сероватая волна тягот окутывала с головой, и чтобы выжить, нужно было покоряться ей без вопросов. Напряжение от собственной беспомощности слабело с каждым днем: я встраивался в поток. Все мы дышали одним воздухом, лишних не было. Юрий Сергеевич проворно переквалифицировался в инженеры, шутя, что впервые занимается действительно прикладной математикой. Аля не могла нарадоваться на трудовые успехи Лени. А я? Я научился быть любознательным: то бишь лез уже не только в то, что поручалось именно мне. Постиг, зачем марля при дойке коров, поразился, что их и зимой доят, открыл, что при шитье и мужская помощь бывает надобна, наловчился трепалом орудовать. Надвигались большие холода, и моя работа дровосека стала особенно почитаться. Нехватку мастерства я худо-бедно искупал старанием, да и махать колуном было куда приятнее, чем копаться в земле.
Костров стало меньше, а может, мне так только казалось, ведь само время как бы замедлилось. О главном мы уже выговорились, теперь хватало и просто посмотреть на небо после очередного бесконечного дня.
Как-то снова начали гадать, кого же именно обходит беспощадный вирус. Лени предположила, что выживает тот, у кого есть смысл жизни. Левинсон спросил, знает ли кто-то смысл своей жизни, и все засмеялись. Тогда Лени уточнила, что выживает тот, кто верит, что у жизни есть смысл, не важно, зная его или нет. Левинсон спросил, кто в это верит, и все расхохотались еще сильней. Лени – веселее всех.
Тот разговор напомнил мне о беседе, которую я долго хотел провести. Не с Левинсоном, хотя и подозревал, что он обладает нужным ответом, а именно с Лени. Я честно старался не терять головы, но не искать ее общества не желал и не мог. Не сказать, что мы редко общались: только больше о простых суетах.
Повод нашелся одним морозным утром, когда я увидел тень печали в ее темно-синих глазах. Поддержать ближнего в такие минуты для нас вопрос жизненной важности: даже работа может подождать. Я приветственно помахал рукой, делая короткий шаг навстречу. Лени слабо улыбнулась, но подходить не стала. Утренняя дойка – дело серьезное, время сдвигать нельзя. Я подобрался поближе, жалея, что не мог дать ни одного подходящего совета – в своем деле она разбиралась куда лучше меня.
— Утро доброе! – произнес я просто. – Отчего горюешь?
— Да ничего… Работы много.
— А, это… Это да, — я согласился. – Надоедает порой. Странная штука – усталость. То накатывает, то уходит, а ты тут словно и вовсе ни при чем. Мне уже почти и наплевать на нее.
— Молодец, – Лени не смотрела на меня, прилежно массируя послушное коровье вымя.
— Да что там… Ты, если тревоги какие, подходи, хоть ко мне, хоть к Левинсону. Мы всегда выслушаем, а Петрович так еще и книжками завалит по теме, он сюда целую библиотеку привез. Там даже полное собрание Гегеля есть, — доверительно шепнул я. — Васька скоро «Фауста» наизусть читать будет! В пору клуб книголюбов основывать, присоединишься? Глядишь, потом и сценку какую-нибудь поставим. Хочешь Маргариту играть?
— Спасибо, — ответила она коротко. – Это ты и впрямь хорошо придумал.
Вечером она рассказала, в чем дело. Юрий Сергеевич тосковать начал. Он давеча перед сном не выдержал, ей и пожаловался. Теперь волнуется, что ей в такую пору проблемы свои повесил, боится, что погубил ее, сказать прямо это тоже боится, кается, все прощения просит, а она не знает, как успокоить его и сказать, чтоб не мучился.
— К Левинсону ему надо, — сказал я уверенно. – Он живо ему мозги вправит. Да только чего отец твой тоскует?
Лени замерла в нерешительности. Я ободряюще коснулся ее руки. Жаль, что с мороза. Хотелось бы сейчас поделиться теплом.
— Мы свои тут. Все одной нитью повязаны, — мне показалось, что слова мои прозвучали ласково. Девушка крепко сжала мои костлявые пальцы, вот только говорить не спешила. Мой вопрос больше не казался мне важным, но я просто не знал, что ещё сказать.
— Я думаю, тут у каждого своя тревога. Может, этим мы все и едины. Вот взять, к примеру, Никодимыча. Он думает теперь, что всю жизнь пусто прожил. Говорит, знал бы главное, тогда и книжки бы читал, людей бы любил, культурным человеком стал, а теперь поздно. Левинсон… он друга своего не уберег. Столько лет учился мудрости, а в главную минуту, в час, ради которого, он, может, и родился на свет, не нашел подходящих слов. А я… я родителей не спас. И друзей. Я когда думаю о вирусе, то начинаю понимать, что все это какая-то странная случайность. У меня просто не укладывается в голове, почему все это меня стороной обошло. Я не верующий, никого в жизни не спасал, даже в любви ничего не смыслю. Да и человек-то, в целом, унылый. Но почему-то жив. Почему? Да нет здесь правильного ответа. Жив и все, надо жить дальше.
— Ты не унылый, — возразила она очень серьезно. Я поднял брови. – Ну хорошо, даже если унылый! Ты уютно унылый. Не потому, что страдаешь, или живешь как-то не так. Не потому, что хочешь, чтобы тебе посочувствовали, или помогли. А просто потому, что ты такой. С тобой рядом не бывает тяжело. И только что я поняла, почему. Ты ничего не ждешь и не просишь. Ты просто живешь.
Я так и стоял, в полной растерянности.
— Коля, а ведь я теперь знаю, что папе скажу. Он о том же самом думает, вот ровно о том же, что и ты. Что это не он должен был жить. Тут в маме дело. Понимаешь, она с нами до Хорошилова дошла. А смерть Олечки – не вынесла. И никто не вынес. Только мы. Все семьи уходили туда, — она ткнула пальцем в небо, — вместе, без остатка. А мы, получается, маму бросили. Жизнь выбрали.
Я понял ее. Слов не было. Мне показалось правильным подойти еще ближе…
… — Спасибо… — отстранилась она, кажется, через пару мгновений, оставив моим рукам лишь сбитый пульс своих тонких ладоней. Мы стояли и смотрели друг в друга, собирая осколки, чтобы пронести их через любое будущее, невнятное и суровое.
— У нас каждый жизнь выбрал, — сказал я, наконец. – И мы тоже выбираем. Снова и снова. Каждую секунду. Это и есть единственный ответ. Не вопреки тем, кто уже ушел. Ради тех, кто еще остался.
4.
Мы приближались к Новому году. Неугомонный Васька свято чтил долг деревни перед историей, регулярно записывая в позаимствованный у Левинсона дневник очередную строку для местной летописи. Я как-то упросил его поглядеть, смеялся до колик.
01 дек. Левинсон научил играть в крестики-нолики на бесконечной доске. Я выиграл со счетом 5:0.
02 дек. Никодимыч подрался с козлом и насмешил Лени.
03 дек. Юрий Сергеевич объяснял мне тригаммаметрию. Я все понял.
…
07 дек. Митька совсем не умеет играть в крестики!
08 дек. А я думал, Левинсон – человек.
…
10 дек. Я решил простить Левинсона. Пожалуй мне и впрямь рано играть Фауста. Но он должен доносить свою критику вежливее! …
…
12 дек. Колька больно довольный сегодня. Рассказывал мне обо всем подряд, и про компьютеры, которые без электричества работают. Надо будет их заново изобрести.
13 дек. Похищен Шекспир. Главный подозреваемый – Левинсон, потому что книгу украли именно у него. Мотив преступления выясняется.
На этой загадочной записи я захлопнул бесценный исторический источник. Логика Васьки не казалась мне бесспорной, но в одном он был прав. Действительно, кто-то взял и стащил полное собрание (в одном томе) с Левинсоновской полки. По правде говоря, я был уверен, что это Васька решил тайком поставить пьесу, где он сыграет Гамлета. Да только вряд ли он был такой хитрец, чтобы специально подсунуть мне дневник…
Признаться, Шекспира мне было жаль. Я успел прочесть только одну трагедию, и даже не успел выучить все полюбившиеся фрагменты.
Жизнь продолжалась.
***
Настал последний костер декабря. Морозы, словно из уважения к маленькому празднику, ненадолго спали, а Василий Тучин предложил, как снег подтает, отправиться в экспедицию, чтобы посмотреть на мир и поискать выживших. Мы чувствовали, что напряжение в темах начинает спадать, страх перед прошлым и будущим почти прошёл.
— Знаете, — сказал тогда Левинсон с довольной улыбкой. – Философы долго гадали, как же добиться, чтобы общество по уму и по совести устроить. Столько красоты напридумывали, представить страшно. Но каждый раз все упиралось в человеческий фактор. Сам человек не хотел жить по совести, а уж по уму тем паче. И сдвинуть этот воз никто не мог. Всякий, кто пытался, тут же объявлялся врагом, мизантропом, возмутителем спокойствия, нетерпимым. И когда Просвещение отдало концы, человеческий фактор чуть ли не официально благословили. Пусть, мол, каждый живет, как хочет, ура…
Антипка уже старательно ворошил поленья; речь затянулась.
— Я к чему веду, — снова улыбнулся Аркадий. – Что не смог человек, то однажды сделала природа. Вирус победил. Но кого? Ему не скажешь, что перед ним все равны. Его не убаюкать либеральными гимнами, не убедить, что нет хороших и плохих. Он просто придет и вынесет свой вердикт. И в преддверии наступающего праздника я хотел бы сказать, что впервые встречаю грядущий год среди людей, каждому из которых по-настоящему доверяю. Было тяжело и больно. Но воз сдвинут. И мне кажется, я понял, кто проходит дальше. Не знаю про нейроны, да и знать не особо хочу. Но с нашей, человеческой точки зрения, выживает тот, кто в любой ситуации выбирает бытие, а не небытие. Тот, кто осознает себя частью большого мира… и готов до конца защищать его.
Послышались редкие хлопки.
— Чё-то мудрёно, Петрович, — привычно изрёк благодушный Никодимыч. Кажется, речь ему понравилась.
Но она не понравилась мне. Давно забытое чувство показало вдруг голову: я чувствовал гнев. От неожиданности я даже не до конца подавил его.
— Разве вирус справедлив? – произнес я тогда холодно. – Он никогда не решал, кто хорош, а кто плох. А если и решал, мне плевать на его решения. Разве те, кого мы потеряли, были плохи? Разве они были хуже нас?
Аркадий умолк, он больше не улыбался. Я тут же смягчился, но покой ненадолго покинул полюбившуюся ему душу.
— Я тоже верю в каждого здесь, — добавил я, силясь спасти вечер. – Я рад, что храню очаг этой жизни вместе со всеми вами. Но мы не должны забывать, что любая человеческая жизнь, вообще любая жизнь, была и остается бесценной.
Левинсон посмотрел на меня с нежностью и отеческой теплотой. Когда он снова заговорил, его голос снова звучал для всех.
— С наступающим, любимые мои!
Но глаза его были грустные.
***
— Ты прости, если я чего не так сказал, — обратился я к Левинсону уже из кровати.
— Да все ты правильно сказал, Коля, — чуть подумав, откликнулся он. – Ты молодец. Ты заставил меня пожалеть, что я так и не завел семью. Теперь я понимаю, что такое сын. Такой сын.
Больше он ничего не говорил.
5.
Я проснулся прежде петушиного крика. Снилось что-то противное, — кажется, неоконченный разговор.
Аркадий еще спал. Жаль, мне хотелось поскорее сказать, что я понимаю: ничего плохого он в той речи в виду не имел. Мысли мои плыли. Не лежалось. Я встал с кровати, стараясь не шуметь. Вышел во двор прогуляться. Вдруг захотелось помолиться. Просто обо всём, за нас всех.
Крик горе-птицы взорвал мои раздумья. Левинсон уже должен был проснуться. Быстрым шагом я направился к избушке.
— С Новым годом! – поприветствовал меня Антипка. – Не спится, что ли? А Аркадий где?
— Не вышел еще? – я старался говорить спокойно. – Как раз иду проведать.
— Лихо ты его вчера переспорил, и впрямь увлекся мужик!
Увидев мое лицо, фермер умолк.
— Пойдем вместе проведаем.
…
…
…
— Кто скажет Ваське? – прошептал я, когда мы с Антипом выбрались, словно к последней надежде, под защиту неба и солнечных лучей.
— Я, — твердо сказал он. – Ты не сможешь. Главное – сам держись.
И он обнял меня. Так, что действительно затрещали кости.
— Держись, — он и впрямь держал меня со всей силой, как маленького ребенка, бродившего прямо у обрыва. — Ты выдержишь. Мы все выдержим…. Нам отступать некуда. Выживем.
Я сел на колени, и он вытер мне щёку, тоже как маленькому.
— Мы все с тобой. Все до единого.
…
…
Она-то точно знала цену моих необдуманных слов у костра. Я избегал взгляда Лени, пока не понял, что это вопрос жизни и смерти. Медленно поднял сухие глаза. Как и в старые времена, готовый принять любой ответ.
Осуждения не было. Не было и прощения, отпускающего грехи. Ее любящий взор не понимал, что меня нужно прощать.
ЭПИЛОГ.
Хоронили Левинсона всей деревней. Даже Васька пришел, укутанный в самую теплую шубу Антипки. Юрий Сергеевич ни на секунду не отпускал мальчишеской руки.
Закрывать покойному глаза доверили мне. Не потому, что так безопаснее. Просто по-другому нельзя.
Последними силами рвущегося куда-то сознания я понимал, что думать сейчас – непозволительная роскошь. Я лишь отпустил в мир эти слова, метущиеся прочь из памяти:
Лежи здесь, смерть, тебя мертвец хоронит.
Нередко люди в свой последний час
Бывают веселы.
У монолога было продолжение, но его поддержал вдруг совсем другой голос: звонкий, тихий, бесценный.
Зовут сиделки
Веселье это «молнией пред смертью».[2]
Я мог понять, почему Лени начала постигать Шекспира с этой же трагедии. Нам ведомы тревоги друг друга; но бесконечно далёк каждый следующий миг.
[1] На самом деле Аркадий Петрович цитирует по памяти не столь уж древний европейский текст: «О пользе и вреде истории для жизни»
[2] Шекспир У. Ромео и Джульетта. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.