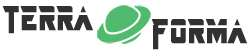| От сессии до сессии |
ПРЕДИСЛОВИЕ
Студенческие годы не забываются. И это неудивительно. Это самый расцвет молодости, гигантских планов, грандиозных надежд и веры в свои безграничные силы и возможности. Это особый мир, когда постоянно вокруг тебя друзья-товарищи, подруги, пора любви и открытий. Каждый день ты видишь перед собой умнейших людей страны, которые раздвигают твой горизонт, создают новое мировосприятие. Постепенно отсеивается мелкое и печальное, суетное и недоброе. А всё хорошее становится еще лучше и привлекательней.
Студенческие годы издалека представляются как бесконечное веселье, радость и смех. Хотя, конечно, это далеко не так. Потому что немало было печального и грустного: постоянная нехватка денег, несданные экзамены и зачеты, лишение стипендии, выговоры и порицания. Но наша память устроена так, что склонна представлять молодость в розовом цвете, когда было здоровье, красивые девушки кругом и преданные друзья, которые за тебя и в огонь, и в воду. И это нормально. Поэтому проходят годы, а мы не забываем своих товарищей, своих увлечений, своих преподавателей, по-прежнему улыбаемся их причудам. Пожилые рассказывают своим внукам о студенческих годах с улыбкой и со смехом. А тем трудно поверить, что их бабушки и дедушки были когда-то юными и беззаботными.
«От сессии до сессии» — это не документальное повествование, а скорее сборник рассказов по мотивам студенческой жизни. Действие происходит в «пятерке», общежитии номер пять, где селили студентов-гуманитариев.
Не нужно проецировать изображенных героев на реальных людей. Да и совпадение фамилий – всего лишь совпадение. Хотя некоторые черты и особенности взяты с натуры. Если кто-то узнает самого себя или знакомого, то пусть помнит о том, что часто в художественных образах современники автора узнавали реальных людей. В чем в общем-то нет ничего удивительного. Так бывает сплошь и рядом. И, пожалуйста, без обид. Даже если вы считаете, что какие-то отрицательные черты преувеличены, а образ шаржирован.
Конечно, со временем меняется антураж, ландшафты, иные вещи окружают нас. Но одно остается неизменным: молодость, надежды, любовь. И место, где они обитают: студенческое общежитие.
1
ДВЕРИ
Пить ради пить неинтересно. Не интеллигентно даже. Непонятно зачем тогда пить. Ради чего? Зачем? Утром стонать с похмелья, не идти на первые пары и заливать в себя воду, как в пожарную цистерну? Можно и так, если кому-то нравится, и он не презирает самого себя. Где тогда интересные воспоминания, приключения, как в «Дебрях Африки» у Майн Рида, о которых можно рассказывать до очередного мероприятия, каждый раз с новыми подробностями?
После очередной бутылки тянет на подвиги. Таков человек. Против природы лучше не переть. Без «д» кстати. Можно с «д». Бутылка может быть второй, может быть двадцать второй. Дело не в количестве, а в качестве. Бутылка, то есть ее содержимое, может из любого сделать героя. Ее, бутылку, можно назвать героической. Того, кто ее любит, может подвигнуть на героические дела.
Дело не в словах, как назвать тот или иной феномен. В сути. «Зри в корень!» — руководство на все времена. Суть была такова.
Гуляли не пацаны, а зрелые мужи, за плечами которых были десятки зачетов, экзаменов и твердое знание основ марксистко-ленинской теории. По крайней мере, они были убеждены в этом. Вы уже догадались, что это пятикурсники. Только они на короткой ноге с основоположниками. Гуляют пятикурсники основательно, не гоношатся и не вспоминают, как они в школе на учительский стул кнопки подсовывали, а доску натирали мылом.
Ничто человеческое им не чуждо. После очередного «накатим» наступила фаза героических саг. Просто пьют алкаши. Пятикурсники пьют с глубоким смыслом, осознанно.
Первокурсники в таком случае наливают в презерватив ведро воды и вешают его за окном. Делают они так только со стипендии, когда денежные средства позволяли совершить поход в аптеку.
Один первокурсник перегибается за окно. Он на стрёме. То есть наблюдает и подает сигнал. Другой ворошиловский стрелок
— Ну, чо ты там? Сейчас уйдет. Да давай! Стреляй же!
Стрелок… На пальцах у него рогатка. Резинка из трусов. Вставить назад в трусы ее недолго. Стрелок стреляет. Водопад обрушивается вниз на голову несчастного прохожего, который имел неосторожность идти прямо под окнами. Называется эта забава «Дождик! Дождик! Пуще!»
Наши были пятикурсниками. Такие забавы они считали дебильными. Сами в свое время порезвились так же. Теперь такие шуточки у них ничего, кроме отвращения, не вызывают, как статья «Как нам реорганизовать Рабкрин», которую должен был законспектировать каждый советский студент. Сколько можно дурью мучиться?
Тут кто-то предложил помыться в душе. Не идти же им в кинотеатр или в ресторан? Потом уже, когда очистятся от грязи и мирской суеты, продолжить дальше. Так сказать, сделать антракт.
Хорошая инициатива. Вспомнили, что у душа женский день. Они чередовались через день: мужской душ и женский. Они не против помыться и с девчонками. Даже наоборот… Это могут истолковать превратно и замарать их моральный облик.
Девчонки могли оказаться пуританками. Пуританки даже на пляжах загорают в сарафанах, кокошниках и кирзовых полусапожках. Увидев мужиков в плавках, падают в обморок. Тут кто-то вспомнил, что время уже позднее. То есть как раз такое, когда или спят, или в кроватях не могут уснуть.
Девчонки уже успели помыть всё, что у них моется. И чего сидеть, рефлексировать?
— Тогда душевая закрыта, — говорит один.
— А может быть, открыта, — резонно возразили ему. – Что это так трудно проверить открыта она или нет?
Поднимаются из-за стола, пьют на посошок и спускаются с пятого этажа на первый. Пока шли ни единой души не попалось. Тишина, вроде и не студенческое общежитие, а богадельня. Вахтерша их прозевала, потому что смотрела телевизор. Вряд ли это был эротический фильм. Потому что выражение лица у нее было сонное. Скорее всего революционно-историческая драма.
Дверь в душевую была открыта. Прислушались. Только ритмичный шум капель. Как и положено. Даже вода горячая осталась. Не кипяток, конечно, но и они не пить собрались. Помылись. А тут оказалось, что никто не взял с собой полотенца. И никто за полотенцем на пятый этаж идти не соглашался.
В раздевалке в углу стояло что-то серое, намотанное на палку. Стали гадать, что это такое. И решили, что это нечто необходимое для девчонок в критические дни. Иное объяснение им не приходило в головы.
Вытираться этим не стали.
— А давайте пойдем нагишом! – предложил кто-то. – У себя и вытремся, если не обсохнем дорогой.
Задумались. Конечно, если был бы первый этаж, можно было б рискнуть. Но на самый верхний? Под самые облака.
— Нее! Ходят же! Кому-нибудь приспичит на кухню. В холодильнике чужими продуктами попользоваться.
— Ну, если услышим, что кто-то идет, то за дверью спрячемся. Да и кто сейчас будет ходить!
А предложение-то толковое. Не напяливать же на мокрое тело одежду. Негигиенично как-то.
Еще ни одни Лоэнгрин не поднимался нагишом с первого этажа на пятый. Они будут первопроходцами.
О них сложат песни. А народы Кавказа в честь их будут исполнять зажигательные танцы. А какой-то серьезный композитор возможно сочинит кантату на цикл стихов, посвященных их подвигу.
Вроде бы тишина. Движенья нет. Но разведка не помешает. Сначала выбрался самый ловкий и смелый. Меланхолически храпит вахтерша, бдительно охраняя вход и выход. По телевизору герои-революционеры дают клятву бороться с царизмом до конца.
Двинулись друг за другом, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к каждому шороху. Но мало ли что может шебуршаться в пятиэтажном студенческом общежитии! Любая мышь могла довести их до инфаркта. Но мыши отдавали предпочтение столовой, а не студенческим общагам. Не любили они их из-за шума и аскетизма. И если бы завелась здесь какая-нибудь беспутная мышь, она бы плакала в углу.
Самое опасное место – это вход в общагу. А представьте, если бы сон вахтерши не был таким сладким и глубоким, и она бы увидела шествующих друг за другом сухопарых и совершенно голых ахиллов и гераклов? Жалко бабушку! А ведь ей еще нужно поставить на ноги внуков.
Когда прошли мимо, вздохнули с облегчением, но бесшумно. Выдох сделали через уши. Путь на Олимп только начинался.
Кто жил в общаге, тот знает, что настоящая жизнь там начинается только с полуночи. Перед этим хорошо выспятся на лекциях, после несытного обеда и перед полуночью.
У кого-то просыпается аппетит, у кого-то первородный инстинкт и он отправляется на поиски, кому-то просто делать нечего, и он не знает, чем заняться и начинает искать приключения на одно место. Завтра будет уйма времени выспаться на лекциях и семинарах. В этом и заключалась величайшая опасность и героизм, проявленный нашими пятикурсниками. Чтобы обрести такие качества, нужно пять лет получать высшее образование.
Им повезло. Как раз в эту ночь движения почему-то не было. Все сидели, а скорей всего лежали, по своим конурам.
Но на подходе к третьему этажу услышали голос. Это было подобно грому средь ясного неба. Хотели бежать вниз, но тут же решили, что лучше рвануть наверх к своей берлоге. Всё обошлось. Голоса не дошли до лестничной площадки, а завернули в какую-то комнату. Снова тишина. Фууу! Слышно только, как бьются сердца четырех. Четвертый этаж. Осталось почти ничего. Немного наверх, а потом по коридору. Тут… ну, блин! Таскает вас по ночам! Ну, чего вам не сидится дома? Чего вас носит? С коридора пятого этажа девичьи голоса, звонкие и веселые. Они надвигаются. Идут к лестнице.
Решили гераклы вниз. Там прижмутся, переждут грозу. И снова наверх, чтобы вдоль коридорчика. Тут и снизу по лестнице поднимаются девичьи голоса со смехом. Чего вот расходились? Совсем распустилась современная молодежь. Раньше как: посмотрели «Спокойной ночи, малыши» и баиньки.
Они туда-сюда, туда-сюда. А все ярко освещенные: и лестница, и коридоры. Электричества не экономят. Чтобы никто, спускаясь по лестнице или шествуя по коридору, не запнулся и ничего у себя не сломал.
В коридор ведут двустворчатые двери. Иного выхода нет. Спрятались они за дверями, трясутся и вспоминают бабушкину молитву: спаси и пронеси. Хотя и атеисты.
Вот девчонки сверху и снизу сходятся на этой площадке и начинают так визжать, что прервали крепкий рабочий сон вахтерши, которая закрутила головой. Такого визга за свою рабочую карьеру она еще не слыхала.
Парни не понимают, отчего девчонки так визжат. Их же не видно за дверями. Правда, почему-то сами они всё видят. А не только слышат, как они визжат. И чего так визжать? Тут до них доходит, что двери-то стеклянные. Раньше они на это не обращали внимания. Побежали бы в свои комнаты, но девчонки стоят визжат и никуда не уходят. Это, в конце концов, даже неделикатно с их стороны. Могли бы хотя отвернуться. Глаза у них большие, бесстрашные и целеустремленные. От визга, наверно. Ребята дрогнули и побежали, одной ладошкой прикрывая часть зада, а другой переда. На визг во всех комнатах открывались двери. Никогда коридор еще не видел столько людей.
Быстро прибывали с других этажей. Весть о голых пятикурсниках, как степной пожар, распространилась по всем студенческому городку. Особенно много было представительниц прекрасного пола из соседних общежитий. Они оказались более легкими на подъем. Вот чего не спится девкам по ночам? Кто-нибудь может объяснить? Будто специально не спали и ждали, когда побегут голые пятикурсники с первого этажа на пятый. Телепатия у них что ли какая-то? Или нюх собачий на это дело?
История получилась шумной. Несколько дней Академгородок только и говорил об этом.
2
ПРИШЕЛ, УНЮХАЛ, ПОДКОРМИЛСЯ
Баяндин Вова коренастый, рыжий и в очках.
По Фрейду человеком управляют два инстинкта: либидо и страх смерти. Так мог считать человек, не знавший Вовы. Не повезло Фрейду родиться позднее, тогда его учение выглядело бы более научным.
Вовой двигало две страсти: еда и история. Если бы Фрейд знал его, то и психоанализ выглядел бы иначе. Но простим старику. Он в этом всё-таки не виноват. Не повезло ему с рождением.
Если вторую страсть можно было удовлетворить лекциями и книжками, то первая была не удовлетворяемой. По крайней мере, с тех пор, как он поселился в общежитии. Точнее, удовлетворяемой не всегда и не в полном объеме, как Вове хотелось бы. Чтобы было понятней, объясню на другом примере. Это все равно, что вам отдается прекрасная дева. Если вам не нравится такая аналогия, можете пропустить ее. Только вы начинаете входить в азарт, она грубо и бесцеремонно заявляет: «Всё! довольно! На сегодня хватит! Хорошего помаленьку! А то приестся и будет не в радость. Не всё сразу! Как-нибудь в следующий раз! Откуда я знаю, когда будет в следующий!».
Обидно? Не то слово! Вот таковы были отношения Вовы с едой. Она заканчивалась в самый желанный момент. Поэтому он был постоянно в поиске. Даже сны ему снились с поисковым уклоном.
Духовная пища, конечно, может быть очень сытной. Иногда даже полезной. Не всем, правда.
И не для желудка.
Поэтому каждый вечер Володя выходит «мышковать». Аппетит у него отменный. Никак не соразмерный стипендии.
Словом «мышковать» он называл поиск пропитания. Любимой его пословицей была пословица про волка, которого ноги кормят. Вечером с кухни уносились кастрюли с супом, опустошался холодильник, комнаты запирались от незваных гостей, которые лучше татарина только тем, что не забирали весь продовольственный запас, не хватали девок в свои гаремы, кроме страшненьких и не рубили головы тем, кто посмел пикнуть или права качать. Нет! Нынешний гость гуманный.
Володя – не татарин. Хотя в каждом русском есть татарская кровь, если столько веков таскали татары русских женщин к себе. К нему относятся, как к баскаку, от которого лучше спрятаться и затаиться. Авось, минует нас чаша сия. Хотя, чтобы миновало, такого не припомнится. Мало самим. Аппетит же у Володи бездонный. Он съест столько, сколько есть на столе. А когда ничего не останется, сметет крошки и отправит их в рот.
Слава и Толя – четверокурсники-филологи. С четвертого курса расселяют по двое в одной комнатке. Толя из города. Из дома приезжает с унылым портфелем, в котором лишь конспекты и книжки. На выходные и праздники он ездит домой, а в понедельник возвращается. Слава, груженный, как ишак, приезжает из деревни, которая в далеком районе. Привезти легче, чем сохранить, использовать только для собственной пользы и желудка. К деревенским отношение особое. Они везут из дома еду.
Вечером Слава жарит картошку на сале. Для него это самая вкусная еда. И предвкушает скорое наслаждение. Толя с книжкой. Больше он ничего не умеет делать, потому что он городской, то есть не приспособленный к практической жизни. Слава даже не осуждает его за это, но относится с пониманием. Деревня – становой хребет России. Парить, жарить, кипятить, варить можно только на кухне. Кухни есть на каждом этаже. Там стандартный набор: три электрических плиты и два холодильника.
В комнатах держать плитки и кипятильники запрещено. Время от времени устраиваются рейды по изъятию. Слава, как деревенский житель, привык жить не по законам, а по житейскому разуму. А здравый разум всегда выше любого закона. И хитрее. Этот здравый разум подсказывал ему, что готовить что-то на кухне, значит, готовить для других. И тогда того, что он приволок из деревни, не хватит и на неделю. Плитку днем он прячет под матрасом. А вечером, если нагрянет проверка, всегда приоткрыто окно для вентиляции. И плитка быстро оказывается за окном. Там для нее приготовлен крючок.
Везде ищут. Под тумбочками, под кроватями, но под подоконник с уличной стороны еще никто не догадался заглянуть. Вот вроде пахнет жареным, а ничего нет.
Толя и Слава переговариваются шепотом. Под порогом лежит пальто, чтобы запахи не улетучились. Но вот только сковородку не заставишь замолчать. Она шкворчит. Стреляет жиром. Но на плитку пальто не накинешь. И намордника не наденешь. Надеются, что пронесет.
За дверью раздается какой-то шелест. Толя и Слава глядят друг на друга, потом на дверь. Кажется, что даже стук сердца может выдать их. Как назло, громко стрельнул жир. Не мог немного подождать! До чего же бессовестно с его стороны. Предатель! Представляют Володю, приложившего ухо к двери, а потом ставшего на колени. То ухо, то нос он старается протолкать щель между дверью и полом. Глядят, не появится ли частица его тела. Слава – атеист. Он матерится. В душе. А Толя: «Господи! Пронеси!»
— Пацаны! Ну, я же знаю, что вы в комнате, — раздается вкрадчивый голос за дверью.
— Открывать придется, — шепчет Толя. – У него нюх, как у собаки. Всё равно не уйдет.
У Славы грустные глаза. праздника души и желудка опять не получилось. Даже мысль о том, что он делает благое дело, не радует его. Ну, не готов он к роли святого. О картошке на сале вскоре придется забыть. Он не успеет даже насладиться ее ароматом.
Наглый и требовательный стук. Так стучатся служители закона и грабители. Не откроете – выломаем дверь.
— Ну, я же знаю, что вы здесь! – возмущается Вова. – Ну, кончай наглеть! Открывайте!
Открывают двери.
— Решили зажать?
Вова, широко улыбаясь, стоит на пороге. Очки его блестят от предвкушения скорого счастья.
— А запах?
— Причем тут запах? – возмущается Слава. – Ну, немного придремнули. Не услышали.
Слава зевает и старается ногой незаметно отодвинуть пальто. Но Вове нет никакого дела до его ноги. Но Слава делает это неуклюже. Вова заметил и усмехается:
— На полу что ли спали?
Слава наклоняется и, тяжело кряхтя, относит пальто в стенной шкаф. Долго его там пристраивает.
— А при чем тут на полу?
Обижается. Но неохотно как-то. Еще один их секрет перестал быть секретом. Опыт Баяндина расширился.
Взгляд его уже прикован к плитке, где под крышкой томится картошка. На двоих такое это не по-человечески. Он рад. Искренне. От все души.
Слава как-то мгновенно превращается в старичка, уставшего от жизни, бесконечных пятилеток и коллективизации.
Кряхтя, он несет сковородку к столу. Кажется, что он тащит целый мешок в полцентнера весом. Буханке хлеба, рассчитанной на два дня, сейчас придет конец. Опять непредвиденные расходы. В конце концов, мог бы приходить хотя бы со своим хлебом.
Как и положено гостю, Баяндин сидит на центральном почетном месте. Ближе всех к сковородке. Вместе с картошкой он цепляет кусок сала. Выбирает самый большой. Хлеба ему хватает на три куса. Понятия об элементарном этикете у него отсутствуют. Заводит речь про семинар и прочую белиберду. Как он хорошо выступил. Славе и Толе это неинтересно. Они думают о картошке, о сале, о том, как всё это быстро исчезает. Кусочком хлеба Баяндин протирает сковородку до чиста. Прикрывает глаза.
Сгребает крошки со стола и забрасывает в рот. Теперь на столе стерильная чистота. Оглядев стол, он поглаживает пузо и весело произноси, при этом нагло подмигивая:
— Хорошего помаленьку!
Слава плетется с чайником к раковине. Чайник он тоже привез из деревни. В нескольких местах у него отбита эмалировка. Он согнулся. Его можно понять. Такой кайф обломали!
— Будешь чай? – вяло спрашивает у Баяндина, уже решив, что чай будет без сахара.
Много чести! Да и лишиться сахара это уже будет слишком много для одного вечера.
— Пацаны! Девчонки из пятьсот тридцать второй компот замутили. Я был на кухне. Уже готов должен быть.
Бодрый и уверенный, он выходит. За дверью икает. Для Славы и Толи это как удар по почкам. Ложатся. Настроение убитое. Праздника не получилось. Даже запах бесследно исчез. Толя открывает «Сагу о Форсайтах». Слава зевает. Представляет родной дом. Потом поворачивается к стене и тихонько сопит. Как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Он подогнул ноги и кажется маленьким, как старичок. За окном черная зимняя ночь. И звезды насмешливо подмигивают им. Издеваются что ли?
3
НЕУЛОВИМЫЙ
И снова вечер. Комната второкурсников. Спартанская обстановка. Четыре кровати, тумбочки, стол, книжная полка. Двое лежат, двое сидят на кроватях. Обычная картина. За стол садятся только пошамать. Если, конечно, есть что. Сейчас не тот случай. В руках книжки.
Жеке надоело читать. И думать ни о чем не хочется. А то начнешь о чем-нибудь думать, и всё опять сведется к еде. Он уставился в угол, где тумбочка. Не его. Будто сейчас она раскроется, как волшебная шкатулка.
Вот взгляд его ожил.
— Смотри, мужики! Ну, ни штяк!
Показывает на низ тумбочки. Все отрываются от книжек. Может быть, действительно, сим-сим открылся? Не торопясь, выползает таракан. Он даже не идет, а еле перебирает лапками. Усики его шевелятся. Он отправляется в путешествие по комнате, которая для него, как для первооткрывателя, таит много тайн.
— Всё! – смеется Жека. – Отбегался. Идиот! Не! Ну, мужики! Среди бела дня! Вообще страх потерял.
Он хватает тапочек и, согнувшись, отправляется навстречу таракана. Тапочек занес над головой.
Тапочек мелькнул в воздухе и с глухим стуком опустился на пол. Шансов на выживание у таракана не было.
Таракан строг и элегантен. Если он наденет круглые очечки и станет на задние лапки, то будет похож на Пьера Безухова в салоне Анны Шерер. Отличается он лишь подвижностью. Что касается внутреннего мира с мучительными поисками смысла жизни, не знаю. Думаю, что всё-таки что-то имеется, раз это самые древние обитатели планеты. Он не сосет нашу кровь, как комар, и не жужжит назойливо перед нашим лицом, как муха. Кажется, что мы вообще ему неинтересны. Может быть, он презирает нас.
Таракан даже питается с нами вместе борщом из одной кастрюли, деликатно подождав, когда мы утолим аппетит.
Мы почему-то не любим его. Он же по отношению к нам никакой антипатии не проявляет. Он застенчивый. Жека погрузил ногу в тапок и покрутил ногой. Так тушат бычок. После чего ни бычка, ни таракана не должно остаться.
— Хрустнуло, — говорит он. – Вроде, как на сухарик наступил. Отбегался, идиот! Борзеть не надо!
Жека пошел к кровати, где его ждала ученая книжка. Чувство исполненного долга переполняло его.
За ним под веселый гогот бежал таракан. Может быть, он хотел ему что-то сказать. Очень важное. Иначе зачем было так торопиться, развивать спринтерскую скорость? Не обо всем можно прочитать даже в самых ученых книжках. Тараканам это, как никому, известно.
Тут Игорь прыгнул с кровати и распластался на полу, раскинув руки, как парашютист. Жека повернулся.
— Ты чего?
— Я чувствую, что он шевелится где-то в районе живота, — радостно воскликнул Игорь.
Игорь стал проталкивать руку под себя. Делал он это не торопясь, основательно, как настоящий охотник.
— Скотобаза! Попался! – радостно воскликнул он. – От меня еще ни одни таракан не уходил.
Товарищи брезгливо поморщились. Как можно такое брать в руку? От одной мысли об этом тошнить начинает.
— Голубчик! Вот он!
Игорь поднялся и торжественно продемонстрировал всем… продолговатую щепочку. Он еще не видел, что держит крепко-прекрепко в пальцах, поскольку победоносно оглядывал друзей.
Таракан неторопливо шествовал к самой далекой кровати у окна, как будто всё это его не касалось. Высокий бородатый Серега громко выругался и поднял ноги. Таракан шел в его сторону.
Он боялся тараканов. Может быть, в детстве Арина Родионовна рассказала ему страшную сказку про кусачих тараканов, которые откусывают язык детям, если они не хотят спать.
Поднялся Толя. Он шел к окну с двухпудовой гирей. На него было страшно смотреть. Не шел, конечно, а передвигался, согнувшись и держа гирю между ног. Гиря тянула его вниз. Не догадывался таракан, какая быстрая и красивая смерть его ожидает. Иначе ускорился бы и исчез за плинтусом. Но он продолжал ползти, не торопясь. Гиря грохнула. Стекла жалобно задребезжала. Внизу заикали, задрав головы к потолку.
— Если бы ногу? – спросил Сергей. – Ты об этом не подумал! Тридцать два килограмма и на ногу!
— Кому?
— Себе.
Толя побледнел, представив, как гиря обрушивается ему на ступню. Ни один таракан не стоит этого.
— Сволочь! – сказал Толя.
Приподнял гирю, убрал ее в сторону. Тяжеленая! Как он с ней гонялся за тараканом непонятно.
— Мокрое пятно!
Все смотрели на мокрое пятно. Привстали. Кто-то разглядел даже лапки и крылышки. Конечно, подлое существо, но все-таки живое. Что бы ни говорили про студентов, но в душе они гуманисты.
Толя понял, что он убийца. До этого он убивал только комаров и газетой размазывал мух. Он поволок гирю на место. Казалось, что в ней не тридцать два килограмма, а целая тонна. Затолкал ее под кровать, обернулся. Может быть, покаяться? Возле пятнышка, шевеля усиками, стоял таракан. Он был из любознательных. Ему так хотелось узнать, что же это такое темное и мокрое. Больше его ничего не интересовало.
4
МИША ШАПОВАЛ
Какая разница между чудаком и чудиком? Да, я тоже раньше думал, что никакой. То есть вообще не заморачивался на эту тему. Ничего не думал. Пока не довелось. Есть разница. Пусть небольшая, но есть. В этом смысле русский язык самый удивительный.
Чудик не похож на других, он не живет, как все. Потому что не может жить, как все. Все чинно идут. Он бежит. Все веселятся, он молчит. Его это всеобщее веселье раздражает. Говорят ему: не надо лезть. Он обязательно полезет. Поэтому понимают, что зря сказали на счет не надо. Чудика порой бьют. Потом раскаиваются и понимают, что поступили неправильно. Пострадал совершенно невинный человек, пусть и непохожий на остальных. Не то, что начинают уважать его. Но без него им скучно. И как только он появляется, всеобщее оживление. Будет что-то интересное.
Чудак тоже не похож на нас с вами. Поэтому мы сразу разглядим чудака под любой личиной.
Проходит он всё-таки по другой статье. Его интересует что-то одно. Все остальное ему неинтересно. Если это наука, то он ни о чем, кроме науки не думает. Все двадцать четыре часа в сутки. В любом положении, в любой ситуации. Даже на смертном одре. Не надо ему ни женщин, ни пива. А ест он лишь потому, что иначе не смог бы долго заниматься наукой. Кто-то таких называет фанатиками и считает, что это ненормально.
Он с первого класса, узнав про Трою, уверен, что она существует. Пройдет время, и он представит ее человечеству, которое до этого считала, что всё это сказки Гомера.
Ему дают деньги на школьные завтраки, а он их откладывает в копилку, чтобы купить билет до Стамбула, оттуда он уже пешком доберется до легендарной Трои с лопатой на плече. Потом дожив до сорока, бросает семью, работу, снимает все деньги и отправляется в Малую Азию. Делает это тайком, чтобы его не отправили в сумасшедший дом. Все крутят пальцем у виска. Они правы. Потому что они нормальные люди. Только дело в том, что он действительно находит эту Трою, потому что он чудак. Самые безумные идеи чудаков в итоге оказываются реальностью.
Миша сдавал приемные экзамены. В общежитии в это время шел ремонт. Стройотряд набрали из студентов общежития. Только одна была девушка-математик Лиля. Для абитуриентов выделили несколько комнат на втором этаже. В комнате жило сразу по восемь человек. Ремонтировали сверху вниз. Так что до конца экзаменов до второго этажа еще бы не добрались. Но грохот стоял до позднего вечера. Многоопытным студиозом смотреть на новичков было забавно. Вроде как забавные зверушки, такие наивные и любопытные. Не знали элементарных вещей. Так школьники смотрят на детсадовцев, которые копошатся на детской площадке. Смеются над ними. Им даже в голову не приходят, что совсем недавно они были такими же. Но в детстве год – другой все равно, что десятилетие для зрелых людей.
Абитуриенты были разные. У одних был такой вид, что всякое желание общаться с ними пропадало. Может быть, они уже видели себя докторами наук и нобелевскими лауреатами. Пытались заигрывать с девчонками. Симпатичными. Им такое внимание льстило. Но таких было две – три. И они, как-то быстро исчезли. А те, что продолжали сдавать экзамены, какие-то серые.
Вот Миша сразу привлек. Не обратить на него внимание было нельзя. Есть такие люди, которые у всех вызывают интерес.
Он был несуразный донельзя. Словно он только что вышел из джунглей. Угловатый. Худой. Ходил он как-то нелепо, то и дело подпрыгивая или внезапно останавливаясь.
Что-то гениальное приходило ему в голову.
Он был курнос, с толстыми губами. Рот его был постоянно приоткрыт, как у ребенка. Широко распахнутые глаза. Так, наверно, должны смотреть земляне на инопланетян. И наоборот. Получалось, что все люди были для него инопланетянами, так непохожими на него. Вроде как всё он видел впервые: вас в замызганной робе, холл, где лежали мешки с цементом и стояли ящики с банками краски, суровых вахтеров бабушек и дедушек, которые сразу почувствовали в нем родственную душу. Каждый раз он останавливался и что-нибудь спрашивал. Чаще всего нелепое. Или что вы тут делаете? А если в раствор больше добавить цемента, он лучше становится или хуже? Его пытались подкалывать, разыгрывать. Спрашивали, беседовал ли с ним полковник госбезопасности.
Вскоре это неблагодарное занятие забросили даже записные шутники. Какой интерес разыгрывать ребенка?
Когда он заходил в общагу, те, кто был в холле, бросали работу, ожидая очередного рассказа.
— Как, Миша, сдал?
Одно мишино плечо опускалось, другое поднималось. Он радостно оглядывал собравшихся. Губы его начинали шевелиться, а затем, растягивая слоги, одни произнося высоким тоном, другие на пониженном, он отвечал:
— Нууу… даааа… так получилось! Вооот! Сдал, в общем-то. Неожиданно как-то получилось.
Кто-то улыбается, кто-то покатывается со смеху. Мишу это нисколько не обескураживает. Все знают, что Миша не просто сдает. Слава о нем уже гремит. И рассказы передаются из уст в уста. Его выгоняют с экзаменов. Нет, совсем не за то, что он ничего не знает. Да, и сказать, что Миша чего-то не знает, ни у кого бы язык не повернулся. Наоборот!
Есть такое понятие достаточности. Вы кладете в чай столько сахару, сколько вам нужно по вкусу. Те, кто принимают экзамены, уже с первой минуты чувствуют, знает студент материал или нет. А на некоторых достаточно только взгляда, чтобы понять, что знаний у него ноль.
Преподаватель слушает минут пять. Хотя мог бы не слушать, поскольку Миша свой лимит исчерпал. С первой минуты, как только Миша начинал отвечать, было понятно, что пред тобой будущий лауреат разных премий.
Миша – уже готовый ученый. Экзаменатор улыбался и произносил:
— Ну, хорошо! Достаточно! Давайте вашу зачетку, молодой человек! А что вы так смущаетесь?
— Погодите!
Миша махал руками.
— Я еще не сказал самого главного. Это лишь предисловие, вступление. Итак, приступаю к основной части.
Всё это интересно. Но еще, кроме Миши, не один десяток абитуриентов. Тут целый конвейер. До конца рабочего дня нужно принять у всех экзамен.
— Ну, всё! всё! Молодой человек! Этого вполне достаточно! Вы свободны. Отлично! Очень отлично! Можете идти! Вот ваша зачетка. До свиданья! Надеюсь, мы с вами еще будем долго встречаться.
— Как идти? Я же еще не рассказал о самом важном. Так вот! Продолжаю! Существуют…
Миша то и дело выдавал замечательные вещи, которые вводили других в ступор. Кто-то надолго задумывался, потому что никогда раньше ни о чем подобном не думал.
У него глаза удивленного ребенка. Все уже приготовились. Заранее улыбаются. Сейчас они услышат нечто.
— Я никак не пойму Академгородка. Странный он какой-то. Что за строители его строили?
Замирают, понимая, что это прелюдия. Сейчас Миша выдаст такое, что всех удивит.
— Ну, как это? Вот посудите сами, с точки зрения здравого смысла. Ведь это немыслимое дело. В лесу стоят дома. Чтобы дойти до магазина, нужно идти через лес, где прыгают белочки, которые вас нисколько не боятся и стали настоящими попрошайками. От остановки до универа идешь через лес по партизанской тропе. Такое ощущение, что непременно встретишь медведя.
Все улыбаются, но не знают, что ответить Мише.
— Сделали бы, как у нормальных людей. С одной стороны улицы, с другой – лес. Никакой путаницы.
Мама у Миши – учительница русского языка в сельской школе. Надо думать, что очень хорошая учительница. Но не только это. У многих учителей дети – полные бестолочи. Миша обладает какой-то патологической грамотностью. Даже опытный корректор может допустить ошибки. Миша пишет очень быстро. Почерк, конечно, не назовешь каллиграфическим, но вполне приличный для парня. Записи его прочитаешь без труда. Ни единой ошибки. Даже в сложноподчиненных предложениях, которые могут растянуться на полстраницы со всякими вводными словами. Студенты филологи не могут поверить в это. Специально проверяли Мишу. Безупречно!
Сочинение на вступительном экзамене – а это четыре часа времени – он написал на двадцати восьми страницах. То и дело спрашивал бумагу со штампом у преподавателя. Это удивило преподавателя. «Может, — думает, — сидит рисует чертиков». Подошел. Нет пишет. Никаких чертиков. Рука ходит только туда-сюда, как у станочника. Когда за пять минут до окончания экзамена он сдал сочинение, не могли поверить. Если просто черкать всякую бессмысленную белиберду, и то никак не испишешь двадцать восемь страниц. Одно утешало, что там ошибок вагон и маленькая тележка. Конечно, за объем можно сделать скидку. Но всё-таки по грамотности выше трояка не выйдет. Ни единой ошибки! Даже точки с запятой расставлены согласно правилам русского литературного языка. Проверяли в справочниках. Это можно было занести в книгу рекордов Гиннеса. Но в те времена это было неактуально. И никто на этот счет не заморачивался. Это там у них на Западе, если что, сразу к Гиннесу.
Миша сдал экзамены и уехал. В стройотряде стало скучно. Но ничего, это ненадолго.
5
КОГДА НЕ ПУСКАЮТ В ДВЕРИ
Пятиэтажное здание, сверху донизу набитое людьми самого цветущего возраста, активных, бойких, непоседливых, жаждущих полноты жизни, веселья, радости, наслаждения. Людьми, которым противопоказана скука и бесцветное прозябание. Если ничего не происходит, они сами придумают себе приключения. Понятно, что время от времени здесь случается то, что на языке циркуляров, инструкций, регламентов называется ЧП. Их классифицируют по степени тяжести и принимают соответствующее наказание.
Трудовая учебная неделя закончилась. Фу! С ее лекциями, семинарами, факультативами. А тут еще стипендию подогнали. Бывают задержки. Но на этот раз вовремя. Тут еще у твоего товарища по комнате день рождения. Двадцатник стукнул. И что вы будете делать? Конспектировать классиков марксизма-ленинизма? Разумеется, отмечать.
Обитатели четыреста тринадцатой комнаты решили отметить это событие с купеческим размахом. Как-никак пацан стал уже совсем взрослым. Не вьюноша, но муж! На цыган и пароход с духовым оркестром у них средств не было. Ни рылом, ни родителями не вышли. Вот купить вина, чего покрепче, и еды хватило. Скромно, но с достоинством.
Решили пригласить девчонок, чтобы они тоже порадовались такому знаменательному событию. Можно было пригласить своих из общаги, однокурсниц, одногруппниц. Когда изо дня видишь одни и те же лица, это как-то пресыщает. Что-то привлекательное теряется. Чего-то нового, неведомого хотелось. К этому времени уже кое-кто познакомился с девушками из городка. На вид старшеклассницы или студентки техникума.
Пригласили одну. Она ломается. Одна я не пойду. Кто знает, что у вас там за компания. Мало ли что! А вот с подругой приду. Как будто, если она придет с подругой, то «мало ли что» не случится. Но понять женскую логику может только женщина.
Девушки могли свободно пройти. Не казарменный режим. И не на зоне же они, куда только жен пускают. Тут есть одно «но». Во-первых, на вахту нужно сдать документ: паспорт, студенческий билет, свидетельство о рождении, приписное свидетельство. Но если тебе нет шестнадцати и паспорта у тебя нет? Всё-таки свидетельство о рождении может вызвать нездоровые подозрения.
Потом даже с паспортом посторонним пребывать в общежитии можно лишь до двадцати двух часов. А потом, пожалуйста, выметывайтесь. Вахтерша даже может подняться сама. Никого такое не устраивало. Десять часов – детское время для общежитских. Разогреться толком не успели, а тут «Ну, ладно! Нам пора, мальчики! Бай! Бай!» обидно? Не то слово. Полный облом и разочарование. Кому такое надо? Никому!
Предложили отвлечь вахтершу. Типа, там что-то дымит в конце коридора. Может, кто окурок непотушенный бросил в урну с бумагой. Или проводка не выдержала. Девчонки этим временем тёп-тёп-тёп, пока вахтерша будет ходить разбираться.
— Она потом тебе припомнит это «дымит что-то». Еще и комендантше пожалуется.
Комендантшу боялись больше, чем приглашения на деканат. Женщина она была суровая. Она никогда не улыбалась. Только от одного взгляда ее хотелось забиться куда-нибудь в уголок, чтобы тебя никто не видел и не нашел. Когда она проходила, наступала тишина.
Пожаловаться комендантше – это была самая страшная угроза. Действовала она безотказно. У того, кому так грозили, сразу наступал паралич и полная потеря воли к сопротивлению.
— Может, сказать, что сестренки приехали? – предложил кто-то и тут же понял, какую глупость он сморозил. – Ну, а вдруг прокатит? Разве не могут нас навестить родственники?
— Сразу шесть сестренок приехали. И у всех другие фамилии, не такие, как у братьев. Ах, да! Они вышли замуж и сменили фамилии. Но шесть! И сразу! Это колоссаль!
— И на улице нигде не посидишь. Холодно. Дуба дашь. Ну, почему мы живем не в Африке?
Дело происходило зимой. Не сказать, что было так уж холодно, как на полюсе холода в Оймяконе. Все-таки им повезло жить и учиться на юге Западной Сибири. Это, согласитесь, уже предмет гордости.
Вряд ли девчонки захотят отмечать день рождения под заснеженными елями. Под вой голодных волков. Это они прекрасно понимали. Поэтому такой вариант даже не рассматривался.
Мимо их шли девчонки. Конечно, тараторили, как сороки. А вы где-нибудь видели, чтобы девчонки шли и молчали?
— Я сегодня, наверно, всю ночь просижу в библиотеке. Срочно назавтра нужно приготовить реферат. Иначе мне конец. Ой! Если бы вы знали, как неохота. Вообще последние дни не высыпаюсь.
Щебетала одна. Беленькая такая. С косичками, как у школьницы. Только бантиков не хватало.
Переглянулись пацаны. Глаза у них веселые.
— — Ну, мы и ослы!
Сказал один из них. Но все подумали точно так же. Просто не успели высказаться. Всегда кто-нибудь оказывается первым.
— Не то слово!
Зимой темнеет рано. Но это только в лесу можно ориентироваться по тропинкам и по звездам. Окна общежития освещают по периметру пространство. Дальше за этим световым пятном ночная тень. И вот в это световое пятно заходят наши друзья. и с ними – представьте себе! – целых шесть девчонок. И ни одной страшненькой. Так иногда бывает. Страшненькие сидят дома и учат учебники. Им некогда гулять по улицам. Две из них даже очень симпатичные. Друзья понимают, что это может грозить будущим конфликтом между ними. Каждый старается пристроиться к симпатичной. Это потом. В недалеком гипотетическом будущем. И сейчас даже не стоит задумываться об этом. Портить предпраздничное настроение. Оно такое легкое!
Девушки смеются. На то они и девушки, чтобы смеяться. Потому что они верят, что дальше у них только счастье. Им палец покажешь и смеху хватит минимум на полчаса. А ребята были еще острословы и шутники. С ними было легко и весело. Девчонки были уверены, что им повезло.
Поднимаются на крыльцо. И уже хотят войти. Но это никак не входило в планы ребят.
— Нам не туда! – говорит Саша, высокий симпатичный блондин.
Девчонки переглядываются. Потом долго глядят на ребят. Они никак не могут понять, в чем прикол.
Смотрят на Сашу. Вот же пятерочка! Их общежитие. Что не так? Девчонки самого симпатичного, считают и самым умным. Саша мнется. Вести переговоры поручено ему. Он понимает, что одно неосторожное слово может разрушить их планы. Не надо терять бдительности.
Представительницы прекрасного пола, глядя в его небесные глаза, готовы поверить во что угодно.
— У нас цербер там.
— Кто? Кто? Что еще за цербер?
Девчонки не были знакомы с античной мифологией. Видно, школьная история им не пришлась по вкусу.
— Ну, очень-очень суровая вахтерша. Дай ей волю, она бы и нас не пускала в общагу. Зовут ее Александра Ивановна. Она вас, во-первых, сфотографирует. А во-вторых…
— Зачем фотографировать?
— Я в смысле, у нее феноменальная память. Она наизусть всего «Евгения Онегина» читает. И потребует документ.
— Мы знаем про документ. Везде в общежитиях требуют документ от гостей. Как будто ты шпион какой.
— У вас есть с собой документы?
— Зачем они нам. Если их носить постоянно, то и потерять можно. Потом замучаешься получать.
— Вот! Значит, она вас не пропустит, девушки. Что же вы не подумали про документы?
Девчонки загрустили. Непонятно, зачем приглашать на день рождения, если их не пропустят. Они, наверно, предполагали, что у ребят огромнейший блат. И они могут провести кого угодно. Изощренная женская логика не под силу здравому мужскому уму.
— Вы долго еще будете стоять?
Раздается рядом. Все поворачиваются на голос. Валера открыл окно в библиотеке.
— Давайте быстрей! Не лето же! – командует он. – А то тут уже шипят на меня, что я их простужу.
— Не бойтесь! – успокаивает Саша. – Мы вас подсадим. Тут же не высоко. Всего лишь первый этаж. Ну, чего вы девушки застыли. Если не пускают в двери, надо заходить через окно.
Девушки переглядываются между собой. Видимо, им впервые предлагают зайти через окно.
Понравилось. Они визжали и хихикали. Особенно им пришлось по душе, когда их поддерживал Саша. Женская природа такова, что если они сначала от чего-то отказываются, то потом им это очень понравится.
День рождения получился веселым и ярким. Много музыки, танцев и жаркого дыхания в нежное ушко.
Далеко за полночь девчонки засобирались, что было неожиданностью для ребят. Вдруг вспомнили о родителях, которые не спят, глотают валидол, обзванивают всех подруг, больницы и морги. Они еще никогда так поздно не задерживались. Ребятам стало и скучно, и грустно. Они рассчитывали на продолжение праздника. Такую решительность девушек они приписали недостатку алкогольных напитков. Делать было нечего. Девушки надевали пальто, ботиночки и полусапожки.
Ребята тоже оделись, чтобы проводить их до дома. Не могли же они как настоящие рыцари пустить их в свободное плавание по ночному городку. Еще была надежда и на прощальный поцелуй – залог будущих встреч с далеко идущими перспективами. Хотя и не всегда. Знаю это по собственному опыту. В прочем, не богатому.
То, что ждало их впереди, не вписывалось в сценарий. Это был уж слишком крутой поворот в сюжете.
Испытания закаляют нас. Делают сильнее. На уроках литературы и истории нас учат на героических примерах. Может быть, мы даже становимся мудрее. Но любой согласится, что лучше было бы, если испытаний выпадало поменьше. А еще лучше, чтобы их совсем не было. Или они были такие, что не доставляли бы нам особых хлопот.
Когда наши герои спустились на первый этаж, и галантный Саша поспешил растворить перед девушками дверь, оказалось, что она банально закрыта. Даже не шелохнулась. Подергал ее. Потом ее подергал другой, третий. Дверь стояла на месте. Сезам не открывался.
Как же они не дотумкали раньше? Выходные же! Кто там будет сидеть до утра? Конечно, студенты – очень трудолюбивый народ, но всё-таки не до такой степени, что даже в выходные всю ночь просиживать в библиотеке. Александра Ивановна заглянула в библиотеку, убедилась, что никого нет, и закрыла ее. Разве нельзя было об этом догадаться?
— Девушки! А не подождать ли до утра? Библиотеку откроют, и вы спокойно выйдете, — предложил Саша. –Не просить же нам открыть библиотеку? Это может вызвать ненужные подозрения.
Они обиделись на эти невинные слова, восприняли их как грязное предложение остаться ночевать. За кого их принимают, в конце концов? Они пришли всего лишь поздравить именинника. Отвернулись. Потом одна из них, кажется, Оля, решительно двинулась вперед. Остальные за ней, полные благородного негодования. Останавливать их было бесполезно. Даже хуже для себя. Этим самым подтвердили бы их подозрения.
На мягком стуле за столом сидела Александра Ивановна, откинув голову назад, и самым открытым образом дремала. Правда, молча. Но это всё равно никак не украшало ее. Девочки обрадовались. Но оказалось, что рано. Двери на выход были закрыты. Одна за другой брались за ручку и дергали. Никак не могли поверить, что такое может быть.
Ребята развели руками. Видно, судьба. Но девчонки решили не покоряться судьбе и не плыть по течению. В этот момент они уверили себя, что никак нельзя подмочить репутацию. Всё это зря, решили ребята. Девушки подошли к столу. На столе был черный телефон, толстый гроссбух, пара остро заточенных карандашей и клубок, от которого тянулась шерстяная нить к недовязанному носку. Носочек был детский.
Оленька жалобно простонала:
— Тетенька! Милая!
Александра Ивановна не шелохнулась. У нее был здоровый рабочий сон. И жалкие всхлипы его не могли нарушить.
— Выйти бы нам! Откройте, пожалуйста, двери! Извините, что мы беспокоим вас в столь позднее время!
Тетенька сохраняла ту же позу, как сфинкс. Ничто не дрогнуло на ее лице. Может быть, она притворялась? Саша выглянул из-за угла и стал делать знаки девчонкам. Они не обращали на него внимания.
— Это… у нее в халате или в ящике ключи, — прошептал Саша. – Посмотрите! Она же спит.
— Нет! Это уже воровство, — сказала Оля.
— Еще и государственной собственности. За это посадить могут, — добавила ее подруга
. – Бабуля!
Один глаз Александры Ивановны приоткрылся, за ни и второй. Постепенно глазные щелки расширялись.
— Какая я вам бабуля? – сурово произнесла она.
— Ну, в смысле, бабушка. Доброе утро! То есть доброй ночи! Ну, то есть здравствуйте!
Замялись.
— Нам бы выйти!
— Куда выйти?
Теперь глаза Александры Ивановны были распахнуты как ставни окон и широко смотрели на мир.
— Туда!
— Зачем?
— Ну, домой?
Теперь у Александры Ивановны были глаза удивленного ребенка. Она не могла понять, зачем из дома выходить домой.
Сна уже не было ни в одном глазу. Поглядела на часы. То, что она увидела, ее удивило. Открыла ящичек.
— Что-то я не вижу ваших документов.
Приподняла толстую общую тетрадь, отодвинула шерстяные клубки. Ничего! Если бы документы были, они лежали бы здесь.
— Это…
— Да я вижу, что это. А как вы без документов прошли?
Голос ее стал суров. Девчонкам почему-то представился ее муж, худенький, забитый старичок.
Александра Ивановна просветила девчонок рентгеном. Им стало страшно. Может быть, теперь они уже никогда не попадут домой. Их мамы будут безутешно рыдать.
— В какой комнате гостили? – сурово спросила Александра Ивановна. – Отвечать! Ну!
— Мы?
— Пимы.
Девчонки решили проявить стойкость. Но коленки у них заметно дрожали. Они не знали, куда деть руки.
— Не знаем.
— Ага! Я так и думала, — кивнула Александра Ивановна. – Гуляли и случайно забрели в общежитие.
Подняла трубку телефона.
— Ну, что же! Буду звонить в милицию. Как положено по должностной инструкции. Если еще окажется, что вам и восемнадцати нет… Ну, сами понимаете, что бывает. Само собой, сообщают родителям, где их дочери проводят ночи. Пусть порадуются! В школу сообщат. А ваших кавалеров ожидает длительный тюремный срок. На вид вам больше шестнадцати не дашь. А это статья Уголовного кодекса. Нехорошая статья!
— Я сейчас, кажется, описаюсь, — прошептала Оля.
Подруги ей не посочувствовали. Все чувства вытеснил страх. Они не знали, что делать.
— Не надо, Александра Ивановна!
Перед столом стоял Саша.
— Не звоните, пожалуйста! Сейчас я всё объясню. Девушки здесь совершенно ни при чем.
Из-за угла вышли остальные. Они стояли, понурив головы. Никто не решался глядеть в глаза Александре Ивановне.
Лицо ее оставалось каменным и отрешенным.
— Четыреста двенадцатая, — сказал Саша. – Девушки были у нас в гостях в четыреста двенадцатой комнате. У Игоря был день рождения. Это его одноклассницы. Они совершеннолетние. Они долго не встречались. Так хоть на дне рождения.
Александра Ивановна кивнула.
— Вы все иногородние. И у вас тут одноклассницы. Как это понять? Они специально приехали?
— Знакомые. Простите! Вырвалось как-то нечаянно. Мы всё сделаем, Александра Ивановна! О чем бы вы ни попросили, мы всё сделаем. Можем помыть пола. Или там что-нибудь отремонтировать. По гроб жизни будем благодарны. Только не звоните! Не надо! Вы же очень добрая женщина. У вас тоже есть дети и внуки. То есть «тоже» — это у меня случайно вырвалось.
Александра Ивановна продолжала держать трубку. Лицо ее стало задумчивым. Она опустила взгляд. Палец ее навис над диском с крупными черными цифрами. От этого пальца теперь зависела судьба многих.
Ни один палец в мире до сих пор не пользовался таким вниманием. С него не сводили глаз
— Погодите!
Голос Александру Ивановны совершенно изменился. Он стал жалким и растерянным.
— А как же они сюда пришли? Без документов? Мимо меня? Я никуда не отлучалась.
Она вспомнила, что всё-таки отлучалась. Но всего на минутку. Может быть, две. Не больше. Они ждали этого момента и воспользовались им. Сколько же им пришлось ждать? Низость!
Ее палец медленно опустился в отверстие кругляшка диска. Стало слышно, как где-то скребется мышь.
— Не прошли они, Александра Ивановна. Они пролезли. С нашей, конечно, помощью, — простонал Саша. – Они не хотели. Это я их уговорил. Я во всем виноват. И готов…
— Что ты сказал?
— Ну, через библиотеку. Через окно в библиотеке. Я открыл там окно, и они пролезли.
Грохнулась трубка. Аппарат был хороший. Даже не вздрогнул. Умели у нас делать.
Взгляды были прикованы к Александре Ивановне. Так обыватель смотрит на «Черный квадрат» Малевича, не понимая за что тут готовы платить миллионы. Он бы мог намалевать сотню подобных квадратов не хуже. Неисповедимы пути современного искусства и настроения вахтеров. Всем стало не просто страшно. Это было нечто большее, чем страх, чувство, не поддающееся описанию, если вы не Стивен Кинг.
Александра Ивановна поднялась. Ребята хотели отступить за угол. Но почему-даже не шевельнулись. Ноги не повиновались. Александра Ивановна медленно продвигалась вперед, ни на кого не глядя. Дальше должно было случиться нечто ужасное. В руке ее был ключ. Не поворачивая головы, она открыла дверь. И так же молча вернулась на свое место. То есть на стул за столом. Положила руки перед собой и смотрела на них. Немые статуи ожили. Запереглядывались, стали кривить лица.
В мгновение холл опустел. Девчонки прыснули на улицу. Причем в двери проскочили все одновременно.
Парнишки вверх на четвертый этаж. Каждый пролет они преодолевали за два – три прыжка. Не знаю, как там с олимпийскими рекордами, но зрелище было впечатляющее.
Александру Ивановну в общежитии больше не видели. Вместо нее появился старичок. Она не попала в больницу. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Плюнем трижды через левое плечо! Постучим по дереву! Ту! Тук! Тук! Да! Войдите! Ой, это по привычке вырвалось. Поколение ее было очень ответственным в отличии от нас, жалких потомков. На боевом посту, даже если это вход в общежитии, они могли пожертвовать, чем угодно, ни секунды не задумываясь. Александра Ивановна сделало страшное для себя открытие после этого случая с девчонками. Так может быть, работала бы себе и работала.
Ведь окна были не только в библиотеке, которая порой была открыта чуть ли не до утра. По всему периметру первого этажа. И в коридоре, и в подсобных помещениях. Что там первый этаж! Эка невидаль молодым забраться в окно второго этажа! А какой-нибудь добрый молодец заберется в девичью спаленку и через форточку на пятом этаже. Выше этаж, сильнее будет эффект и восторг. И тут самая неприступная красавица не устоит. Сразу альпинист станет романтическим героем для красной девицы на всю ее оставшуюся жизнь.
Кого угодно можно затащить! И не то, что на первый этаж, но и на крышу. И что угодно.
Всякое доблестное служение у входа для Александры Ивановны потеряло всякий смысл. Ей стало понятно, что от нее ничего не зависит. Ну, почти ничего. И при желании и ловкости ее обойдут в два счета.
Одно утешает в этой не очень радостной истории. Она не отразилась на наших молодых изобретательных героях. Сами они, понятно, держала рты за замками. Не рассказывали даже однокурсникам.
Зато у внуков и внучек Александры Ивановны ручки и ножки зимой всегда в тепле. Теперь уже ничто ее не отвлекало от клубка со спицами. Ну, а денег всех не работаешь.
6
ГЕНАШКи
От них веяло былинами и богатырскими заставами. Они были крепко сбиты, широкоплечи. Казалось, что творец при их создании ограничился одним топором, вырубив скуластые лица, рельефные носы, четко очерченные рты прямые просторные лбы.
Несколькими ударами он довершил всё остальное. Получилось крепко и надежно. Когда они шагали, то казалось, что проходит дивизия парадным шагом. Ходили они плечом к плечу.
Детишки смотрели на них как на Гулливеров. И провожали их долгими восторженными взглядами.
На ботинки, которые они выставляли у порога, гости смотрели с благоговением. И еще до того, как войти в комнату, они проникались уважением к их владельцам. Нам нравится всё большое.
Одного звали Геннадием, другого Александром. Все их называли Генашками.
Когда Толя поступил в университет, они учились на четвертом курсе. Четверокурсников селили по двое в маленькой комнате блока. Им, видно, не досталось. Что нисколько их не расстроило. Вообще казалось, что их ничто не может расстроить. Если бы их поселили в подсобке среди швабр и ведер, они восприняли бы это с философским спокойствием и здоровым чувством юмора. Быт их нисколько не интересовал.
Они были по-суворовски аскетичны. И жили по-спартански просто, без всяких ненужных украшений. Несколько книг, несколько общих тетрадей, кровати, закрытые строго правильными прямоугольниками одеял. Носили прямые черные пальто. Такие можно было увидеть на членах Политбюро, когда они выходили на трибуну Мавзолея.
Разумеется, только по телевизору. Где еще граждане могли увидеть кремлевских небожителей?
Генашки появлялись в общежитии поздно вечером. Занятия, спецкурсы, библиотека, архивы. Ничего они пропустить не могли. Ни под каким предлогам. Хоть землетрясение, хоть что.
Еще они читали лекции в трудовых коллективах: на заводах, в организациях, НИИ. О политике партии, знаменательных исторических событиях, о проклятых империалистах. За это получали от общества «Знание» денежку. Немного. По десять рублей за лекцию. Но при стипендии в сорок рублей это было довольно неплохо. Целую неделю можно от пуза кормиться в столовой.
Толя вселился. Вечером появились Генашки. Они познакомились. Глаза их лукаво блестели. Его рука попала в пресс-машину. Сначала в одну, потом в другую. Может быть, они жили в тайге и запросто здоровались с медведями? Они улыбались, показывая крепкие широкие зубы без единой ущербинки. Такими зубами можно перегрызть хорошую кость. Или грызть грецкие орехи как семечки, выплевывая скорлупу. Здоровые зубы говорят лучше всего о здоровом желудке, который примет любую пищу.
Из внутреннего кармана один из них извлек «огнетушителей». Увидеть, что он у него был в кармане, было невозможно. «Огнетушителем» называла бутылку портвейна емкостью ноль семьдесят пять литра. Бутылка была из толстого зеленого стекла. В карман, который изнутри, можно поставить поллитровку. И то это будет заметно. Никак не «огнетушитель». Может быть, им по заказу шили пальто, как членам Политбюро? Другой тоже из внутреннего кармана достал внушительный газетный сверток. Это была «Правда», которую обязан был выписывать каждый коммунист.
На портрете верного ленинца расплылось жирное пятно от столовских котлет. Они были историками и, конечно, знали про сталинские времена. Всё-таки наше общество стало намного гуманнее. С десяток плавленых сырков. Они были дешевы и таяли во рту как мороженое. Любимая закуска советских времен. Вкусно и не напрягает карман. Почему-то яблоко. Одно. Крупное, с красными боками. Даже запашистое. Из другого кармана, на этот раз внешнего, была извлечена булка хлеба. Тоже завернутая в газету. «Правда» была крупной газетой. В нее можно было завернуть недельный провиант. Хлеб в те времена был ровно в килограмм веса. И был серый по шестнадцать копеек и белый за двадцать четыре. После этого генашки синхронно сняли пальто и повесили их на деревянные вешалки. Пальто отправили в настенный шкаф.
В шкафу что-то крякнуло, как мужичок, которому на спину взвалили мешок муки, не спросив его желания.
Они действовали четко, без комментариев. Один резал хлеб, одинаковыми кусочками. Полбулки хорошими ломтиками, не то, что в столовой, где некоторые клали два ломтика друг на друга. Яблоко ровно на три части. Потом подрезал пластмассовую пробку огнетушители и сдернул ее зубами. Пробку убрал в карман, чтобы выбросить. Другой выставил три граненных стакана, поставив их на одинаковом расстоянии друг от друга. И пододвинул стулья. Стол для ужина был готов.
— За знакомство!
Толя кивнул. Он первый день жил в общежитии. Всё ему было интересно и ново. И он пока не знал, как себя вести.
— Я бы тоже купил, — проговорил он.
Геннашки улыбнулись. Даже улыбки у них были одинаковыми. Широкие. И глаза смеялись. Толя снова залюбовался их крепкими зубами. Он похвалиться своими зубами не мог.
— Живем-то не последний день, — проговорил Саша. – Всё у нас впереди. У нас сегодня зарплата.
Дважды в неделю, после очередной лекции и в субботу, генашки устраивали такое небольшое застолье с непременным огнетушителем. Каждое застолье было приурочено к какой-нибудь исторической дате.
Толе ничего не оставалось, как садиться с ними за стол. Его просто бы не поняли, если бы он отказался. Четвертого жильца (он почему-то вселился только в ноябре) они не любили. С первого дня он вызвал устойчивую антипатию и нежелание с ним дружить. Он был невысокого роста с некрасивым красным лицом. К тому же одутловатым. С глубокими морщинами, как у старика. Как будто он бухал, не просыхая, неделю, а потом давил подушку. Он писал стихи с редкими глагольными рифмами. А чаще обходился без всяких рифм. Для этого у него была общая тетрадь, озаглавленная «Мои стихи». Стихи были бездарны. Но он их всем читал. И был уверен, что его не понимают. Приходил он поздно или вообще не являлся ночевать, напросившись у кого-нибудь на ночлег в общежитии. Вскоре ему стали отказывать под разными предлогами. Заявлялся он обычно поддатый и начинал ко всем приставать. К каждому подходил и спрашивал, что он делает, какую книгу читает или что такое пишет.
Задавал еще какие-то дурацкие вопросы, на которые никому не хотелось отвечать. Начинал декламировать свои стишки. Читал он их нараспев, подвывая, и махал руками. Хотелось куда-нибудь убежать, чтобы не слушать этого кошмара. Но бежать было некуда. можно было заткнуть уши. Но они были людьми деликатными. И так оскорбить человека не осмеливались.
Из его творчества Толя запомнил только одну поэзу. Была она длинная и монотонная. Лежал в постели, и вот руки как-то сами потянулись. И он ничего не мог поделать с собой. Потом ему стало стыдно. Всё-таки он уверен, что это не хорошо. Как он этими же руками будет брать хлеб и класть его в себе в рот, пожимать другим руки? Долго мыл руки с мылом, шоркал их с вехоткой. С остервенением.
Ему кажется, что никогда не отмоет руки. Это навсегда останется. Как же ему теперь жить? Он дает клятву никогда больше не заниматься онанизмом, как бы ему не хотелось этого.
Сессию он не сдал. Еще какое-то время болтался по студгородку, а потом исчез. Они остались в комнате втроем. В середине учебного года вряд ли кого к ним могли подселить.
Со стипендии Толя купил «огнетушитель» и кое-что в столовой: котлеты, капустный салат. Он всё это присоединил к тому, что выложили генашки на стол. Они синхронное поморщились. Толя не мог понять, в чем дело. Он ожидал одобрения.
— Больше так не делай! – сказал Саша. – На одну стипендию трудно прожить. А мы как-никак зарабатываем. А стипендия вот на еду да на это уходит. Нам оно не в напряг.
Толя понял, что на одну стипендию жить будет туго. Только на столовую и будет хватать. Подыскать бы работу!
Генашки закончили универ. Исчезли из Академгородка. Больше Толя с ними не встречался. Куда их забросила судьба? Были они из деревни. Скорей всего туда и направились по распределению облоно. Только вряд ли они оказались в одной деревне. Хорошо, если в соседних. На праздники и выходные ездят друг к другу в гости. На «запорожцах», которые они купили с рук. В деревне без машины трудновато.
Жены накрывают на стол. Щебечут о своем на кухне. Они сидят напротив друг друга. Рассказывают о селе, о школьных делах, как они выбивают стройматериал, делают ремонт. Того и другого, без сомнения, через год-другой поставили бы директорами школ. Такие крепкие хозяйственные мужики просто находка для районо. Мужчина не лезет в женские дрязги, сплетни пропускает мимо ушей. Поэтому мужчина-директор предпочтительней. Среди ночи он может нагрянуть в котельную, потому что накануне дали зарплату. Понятно, что выпьют, но и про работу не забывай. Если кочегары крепко загуляют, то завтра в школе будет холодно. Так что надо настропалить их, выгнать из кочегарки местных алкашей, пригрозить участковым.
В наше время уже и не решаются говорить о мужской дружбе, чтобы не быть неправильно понятыми. Это что-то вроде дружбы женщины и мужчины, в которую мало кто верит. Мы эту дружбу знаем! Кто-то криво ухмыляется, кто-то отпускает сальные шутки. Теперь и пушкинские стихи к лицейским друзьям кое-кто готов отнести к этой «голубой» категории. Мол, закрытый пансион, где только юноши. Ну, естественно же! Мы сами выбиваем у себя из-под ног последнюю опору, когда благоразумно не говорим о мужской дружбе. Чтобы не увидеть вокруг себя в очередной раз хихикающих вертлявых чертей, для которых не существует никаких табу, никаких ценностей. Мораль для них пережиток ханжеского прошлого. Они же вон какие свободные!
Тот же Пушкин ставил мужскую дружбу даже выше любви к женщине. Это женолюб и поклонник женской красоты! В любви к женщине, даже самой платонической, всё-таки есть физическое влечение, более или менее скрытое, замаскированное.
Оно всегда есть. Если это только не Прекрасная Дама символистов, идеал потерянной гармонии и божественной красоты.
Мужская дружба – это чисто идеальный продукт, как выразились бы сейчас. Только духовные узы, родство душ.
Над ними подсмеивались, но добродушно, без всякого сарказма. Они не обижались. Были беззлобны, бескорыстны.
На каникулы уезжали домой. Они были деревенскими, но из разных районов области. Небольшое застолье с самогоночкой, медовухой. Виделись-то всего два раза в год. Ребята уже взрослые. Могут и выпить.
А утром, как штык, на ногах. В деревне не залеживаются. Поднимаются с первыми петухами. Краюха с парным молоком. Во дворе уже стоит савраска, запряженная в телегу. Отец, такой же коренастый и широкоплечий, как сын, кладет косы. Едут на покос. В кирзовых сапогах, надетых на портянку, в хэбэшных штанах, становятся на краю луга, отбивают стальное полотно. Роса уже ушла. Можно начинать.
Я ли вам не свойский?
Я ли вам не близкий?
Памятью деревни
Я ль не дорожу?
Коса вжикает. И ровный валик травы ложится влево от косаря. Срезано под самый корешок. Сделали по несколько проходов. Считай, что коровке почти на месяц скосили. Вытер пот, подбил косу. Отец одобрительно смотрит на сына. Город не испортил его. Если погода не подведет, то за неделю закончат с сеном.
И все время, пока они были дома, так ни разу и не открыли тетради с конспектом «Как нам реорганизовать Рабкрин».
7
ПЕТРОВ
Петров после школы успел поработать, отслужил в армии, потом два года оттрубил на рабфаке. Поэтому, когда он поступил в университет, то был уже не зеленым юношей, но почти зрелым мужем, понимающий, что к чему и знающий толк в кое-чем. Но своим возрастом и опытом он не кичился и не хвалился. И мог сойтись с любым.
Злые языки даже утверждали, что он был уже женат. И у него есть ребенок, с которым он ни разу не виделся. А вообще с женщинами он ведет себя как самый настоящий подлец. Алиментов он, конечно, не платит. Да и с чего ему платить? Не со стипендии же? Если бы и было с чего, всё равно бы не платил, потому что он такой. Петров – тертый калач. Положишь ему палец в рот, он по локоть откусит и не подавится. Схавает за милу душу. Поэтому ухо с ним нужно держать востро и не доверять ни единому слову.
С первых дней первого курса Петров понял одну истину: на стипендию прожить невозможно.
Нет, с голоду не умрешь, но о пиве придется забыть. И будешь ходить в порванных ботинках. Его это не устраивало. Хоть он не был щеголем, но хотел выглядеть нормально. Решил подрабатывать. Сошелся с группой старшекурсников, которые ездили на Вокзал-Главный разгружать вагоны. Платили хорошо. Даже очень. Работали ночью, потому что днем нужно учиться. И за ночную смену шла добавка. Петров отнес мешок от вагона до машины и понял, что он не создан для каторжного труда. Не та конституция, то есть устройство организма, и мировоззрение не позволяло.
Через неделю он поехал на овощную базу, что находилась на окраине городка. Это был огромный полуподземный склад. Нужно было перебирать овощи и фрукты, отделять товарную продукцию от гнили. Когда его отвели в склад и показали рабочее место, где на ящиках сидели такие же молодые люди, как и он, и сортировали яблоки и помидоры, он попросил противогаз и спецодежду. Кладовщица удивленно посмотрела.
Она поняла, что работать он не будет.
Престижные работы в городке – это кочегар и сторож. Но то, что престижно, то труднодоступно.
Работа ночная. Кинул уголька и спи или готовься к очередному семинару. Кто-то даже девушку приводил на дежурство.
Но такая работа передавалась по наследству. Старшекурсник заканчивал университет и свое место передавал младшему товарищу. Лучшему другу. У Петровых таких друзей среди пятикурсников не было.
На каникулы и по большим праздникам Петров уезжал домой в Барнаул. Злые языки говорили, что он ездит по окрестным деревням и бесчестит красных девиц. Ах, злые языки! Страшнее пистолета!
После чего местные добрые молодцы тянули этих девиц в кущи, а не в загс, оправдывая свое поведение тем, что с надкусанным яблочком нечего церемониться. Кто-то верил этим россказням и боялся заглянуть Петрову в глаза при встрече. Несчастные же девицы бросались в темные бурлящие воды с крутого обского обрыва, успев напоследок пропеть «К чему ж я не сокол, к чему не летаю». Говорят, что эта песня стала самой популярной в алтайских деревнях и ее исполняли даже на танцах.
Не будем слушать, а тем более верить злым языкам. Обратимся к истории, которая добавила новый штрих к героической личности Петрова.
Попасть из Новосибирска в Барнаул можно разными способами. Выбирай – не хочу!
По воздуху, по суше и по воде.
Первый способ отпадал, конечно, если ты не птица, из-за дороговизны. Пусть самолетами летают буржуи! К тому же билеты нужно было заказывать заранее. Чуть ли не за месяц. Путешествие на теплоходе годится разве что для романтических натур, которым спешить некуда, а созерцание воды за бортом и зеленых берегов с редкими населенными пунктами доставляет эстетическое наслаждение и пробуждает тягу пальцев к перу или кисти. Пока доберешься из пункта А до пункта Б успеешь написать пусть и не всю «Войну и мир», но ее значительную часть это уж точно. Петров не был романтиком и красот природы для него просто не существовало. Водное путешествие самое долгое: с многочасовым шлюзованием на ОбьГэсе, причаливанием по ходу к каждой деревушке, даже если там уже не осталось ни одного жителя.
Ладно, если тебе надо именно в такую деревушку, куда иным способом не попасть, потому что прежние дороги заросли бурьяном, а за каждым деревом притаились медведь или разбойник. Водный путь возможен только в навигацию, то есть с весны до осени.
А вот сухопутным путем можно было путешествовать в любое время года: на поезде, на автобусе, на такси, гужевым транспортом и даже пешком, если вы любите туризм.
Отгадайте, каким средством передвижения решил воспользоваться Петров! Подсказка: пеший марш-бросок отпадает, а также передвижение на гужевом транспорте и автостопом.
Ехал Петров после ноябрьских праздников, когда толпы студентов, учащихся ПТУ возвращались в родные общаги с сумками, сетками и рюкзаками, набитыми домашней снедью.
К этому добавьте тех, кто возвращался домой из гостей, любимых тещ и прочих праздношатающихся, и получите картину великого переселения народов. И всем непременно надо именно на тот поезд, на котором едете вы.
Билеты на автобус распроданы на неделю вперед. То же самое и на поезд Барнаул – Новосибирск. И как теперь, скажите, добираться до дома, до общежития, до любимых друзей и подруг?
У пассажирских поездов есть интересная особенность. Вагоны бывают купейными, в которых студенты принципиально не ездят, считая их буржуйской роскошью, недостойной советской молодежи, которая рьяно изучает основы марксистско-ленинской науки. Были купе с мягкими местами. Такие называли офицерскими. А кто-то даже генеральскими. Хорошо быть генералом! Оно и понятно. После ратных подвигов офицеры могли себя вознаградить по-буржуйски щедро. Вы можете себе представить полковника или генерала, который едет в общем вагоне?
Неофицеры брали плацкартные и общие вагоны. Почему-то таких оказывалось подавляющее большинство. Плацкарт покупался заранее, порой за месяц вперед, смотря по наличию праздников.
В общие вагоны билеты продавались всегда, на всех полустанкахВ неограниченном количестве. Нужно было только отстоять очередь в кассу.
Тот, кто отдал такое распоряжение, был уверен, что общие вагоны изготавливают из резины. По крайней мере, пассажиры общих вагонов не сомневались в этом.
Это было не так. В общих вагонах всегда было многолюдно. А если какой-нибудь праздник, то настоящее столпотворение. Тот, кому удавалось присесть, считал, что ему очень повезло. Но большинство не являлись счастливчиками и смотрели на сидящих с нескрываемой завистью. Покидать своего места не следовало. Его тут же занимали. Курильщики не вспоминали о куреве. А без воды можно было прожить, как говорит наука, несколько суток. Туалет в общих вагонах – это особая история, даже цикл самых разнообразных историй, грустных и озорных. Их можно было выслушать за дорогу не один десяток. Не будем сейчас об этом. Да и не всякая чувствительная душа выдержит подобное.
Нижние полки в общих вагонах – это особая статья. Ложиться на них нельзя. Они предназначены только для сидения. Возлежание воспринималось как наглый вызов обществу, тем страдальцам, которые часами переминались с ноги на ногу, не вызывая никакого сострадания у сидельцев.
Верхние полки занимали по двое и по трое, если худые. Под голову клали одежду.
В предпраздничные и послепрздничные дни… Нет, тут нужен гений Данте, который, как утверждают некоторые исследователи, прошел девять кругов ада. Еще до того, как поезд тронется с главного вокзала, общие вагоны представляли собой бочки, плотно набитые селедкой. Вместо рассола был пот и слезы страдальцев. Кто-то пытался запрыгнуть уже после того, как поезд тронется. На каждой станции, полустанке в общий вагон подсаживались, подсаживались, подсаживались и подсаживались. И так до конечного пункта назначения. Это напоминало великое переселение народов или кадры из фильмов о гражданской войне. Всем нужно было попасть из пункта А в пункт Б. это был вопрос жизни и смерти. Всё остальное не имело никакого значения. Если вы ездили на городских автобусах в часы пик, то это то же самое, только хуже.
Со всех сторон тебя зажимают, берут в тиски, испытывают твой организм на давление. Этот нажим не только не ослабевает, но и усиливается. И вы начинаете привыкать. Можно поджать ноги и висеть, зажатым чужими телами. Никуда вы не денетесь.
Когда тряханет, вы почувствуете временное облегчение и даже вздохнете полной грудью. Уверяю вас, после этого вы будете ощущать себя самым счастливым человеком.
Утешает то, что в фильмах о гражданской войне путешествие по железной дороге выглядит еще романтичней. Там непременно еще и конная банда нападет на поезд. У тех, кому повезло прокатиться в общем вагоне в такие дни, на всю оставшуюся жизнь остались неизгладимые впечатления и стойкое убеждение, что не всякое путешествие по железной дороге лучше пешего паломничества. Передвигались же люди до появления паровоза!
Вы уже, наверно, догадались, к чему я веду весь этот рассказ о железной дороге с ее общими вагонами. Вы уже поняли, зная о характере и жизненных ценностях Петрова, что такой вариант передвижения никак не мог устроить его. Ну, разве что он согласился бы ехать на крыше вагона.
Что же тогда? Неужели? Да не может быть такого? Да! С обычным человеком не может быть. Петров выбрал самый фантастический вариант. Иначе он не был бы Петровым. Даже офицеры катаются по железной дороге. Пусть и с мягкими купейными вагонами. Петров, зная, что это такое, решительно отказался от железнодорожного путешествия.
Нищеброд с сумкой, в которой одежонка, пара общих тетрадей и домашняя снедь, без гроша за душой, потому что все было спущено за праздники с друзьями, подходит к привокзальному таксисту и небрежно бросает:
— Командир! Надо в Новосибирск!
Сказано это барственным покровительственным тоном, как будто он сейчас только что облагодетельствовал этого профессионала баранки.
Таксист протирает глаза. Здравое сомнение посещает его. Не тот это тип, чтобы ездить на такси.
Небритый молодой человек с не выветрившимся запашком уже плюхнулся на сидение, бросив сумку назад. Так нищеброды поступать не будут. Мало ли что не брит!
Но таксист еще попытался сопротивляться. Что-то ему не нравилось в этой истории.
— Знаете, что до Новосибирска…
И называет месячную стипендию. Другой бы дунул из такси, только след простыл.
А барин:
— Не обижу! Нешто мы без понятиев, командир. Не первый день замужем, стал быть.
Зевает, прикрывает глаза, показывая всем своим видом, что устал смертельно от жизненной суеты. Кистью, вроде бы как «брысь из дома». Небрежно. Без всяких эмоций.
Неуверенно таксист трогается с места. Всё-таки червячок сомнения продолжает грызть его душу. Никак не может поверить, что ему повезло. Ну, в близлежащую деревушку, понятно. А тут до самого Новосибирска! Это сколько же бабок срубишь! Такая удача выпадает крайне редко.
Как известно, дорога успокаивает и вселяет надежду, отвлекая от докучных сомнений. Если тебе еще и рассказывают, как правильно нужно выстраивать салаг, как руководить научно-исследовательским коллективом и какие перспективы у Сибирского отделения академии наук, то это уже внушает беспредельное доверие и уважение.
Приезжают поздним вечером. «Волга» мягко тормозит перед самым крыльцом общежития. Темно. Светятся окна всех пяти этажей. Фонарный столб в подобострастном поклоне освещает вход в общежитие.
Мокрый снег. Такие крупные с пятикопеечную монету снежинки кружатся беззаботным хороводом.
Петров стал таксисту дороже мамы, папы и батяни комбата. Дорога сближает людей. Он с трудом представлял, как он дальше будет жить без Петрова. Ему казалось, что они всю жизнь знакомы. Когда Петров сказал, что деньги у него в общежитии и он сейчас принесет их, водила сильно не напрягся. Лишь кивнул в знак согласия. Но тут же занервничал.
— Да я вот сумку свою оставлю. Будь спок! – сказал Петров. А вообще людям надо доверять.
— Мне сумка твоя с трусами и рваными носками не нужна, — нервничал таксист. Всё-таки сомнения окончательно не покинули его душу.
Покосился на монтировку, лежавшую возле сидения.
— Ну, не совсем они и рваные, — обиженно произнес Петров. – Причем тут я, если тут такое качество?
— Вместе пойдем! – решительно произнес таксист.
— Да не вопрос!
Петров пожал плечами. Переложил сумку в другую руку. Хотел закурить, но передумал.
— Чаю попьем. У меня индийский чай есть. Бабушка презентовала. У нее везде блат.
Теперь представьте, с какой болью дались таксисту следующие слова, ведь Петров стал для него родным человеком:
— Это… ну, что я там ходить с тобой буду? Ту это… ну, паспорт оставь! Вот! Ну, и это…Чай я уж как-нибудь до дома потерплю. Ну, вроде того. А индийский чай это хорошо!
Может быть, он надеялся на то, что Петров сейчас похлопает себя по карманам и скажет, что у него и паспорт в общежитии. Вот тогда уж он непременно пойдет с ним чай пить.
— Не вопрос!
Петров с улыбкой протянул ему корочки с серпастым гербом первого в мире социалистического государства и крупной золотистой надписью «паспорт». Паспорт для советского человека был дороже всего на свете. Таксисту стало стыдно за свою подозрительность и недоверчивость. Вот так из-за душевной черствости мы обижаем хорошего человека, одного из представителей советского студенчества, которому, как известно, везде у нас дорога.
Поэтому он торопливо сунул паспорт в карман. И отвернулся, чтобы не видеть глаз Петрова.
— Айн момент! – пообещал Петров и хлопнул дверкой.
Таксист вздрогнул и пригорюнился. Без Петрова жизнь потеряла всякий смысл. Хорошо, что у него была семья.
Скажем сразу, что таксист в это мгновение видел Петрова в последний раз. И хотя они были земляками, пути их больше не пересекутся. Но если бы кто-то таксисту тогда сказал об этом, то он плюнул бы ему в глаза, полный презрения и гнева. Уж он-то знает людей, был уверен таксист. Сама профессия располагала к постижению практической психологии.
Он сидел в машине, откинувшись на кресло и улыбался, представив, что он дома, в уютной двухкомнатной квартирке, где ему знаком каждый сантиметр, каждое пятнышко на ковре. Жена готовит стол, достает из шкафа заветную чекушку. Больше он себе не позволял, если ему на следующий день предстояло на работе. У них с этим строго. Прыгает сынок:
— Папка! Папка! А что ты мне привез?
Он небрежным движением бросает на стол купюры с профилем Ильича. Красненькие! Жена округляет глаза. он еще никогда не возвращался с такими деньгами.
— Столько денег! Откуда?
— Места нужно знать, — отвечает он. И смеется. Глядя на него, смеются жена и сын. Сегодня у них праздник.
— Клиент щедрый попался.
Но что-то щедрый клиент задерживался. Ладно! Полчаса туда – полчаса сюда – ничего не решают. Приятные картинки семейного гнездышка стали сменяться неприятным холодком, как будто кто-то водил ледяной сосулькой по позвоночнику. Он поежился. Стал ерзать, хвататься за баранку, как будто это была палочка-выручалочка на все случаи жизни. Оно так и было до сих пор. Баранка его и семью и кормила и поила. Выбрался из машины и тоскливо посмотрел на светящиеся окна пятиэтажки, всё еще надеясь, что сейчас двери откроются и покажется Петров с вот такущей пачкой денег. Долго будет извиняться, что заставил его ждать и благодарить. Никто так и не показался. Не вышла ни одна собака. И на улице было пустынно. Мимо прошел долговязый юноша в дурацкой шапчонке, которого таксист тут же возненавидел. И берутся же такие уроды! Ну, кто ходит в таких шапках? Специально надел, чтобы народ смешить?
Поднялся на крыльцо, потянул двери и вошел. И тут же зажмурился от яркого света, который бил прямо в глаза.
Суровая дама преклонного возраста строго поглядела на него. Так глядит генерал на проштрафившегося подчиненного. Ее рука лежала на раскрытой странице романа. Она была недовольна, что ее отвлекли от самого острого момента сюжета. В другой руке должно быть стрелковое оружие, которое безжалостно отстреливает всех нарушителей. Но его почему-то не было.
Таксист заискивающе поздоровался. Дама кивнула и буркнула «здрась». Взгляд ее оставался непреклонным. Он подхалимски улыбнулся. Я же хороший, я ваш, я полностью в вашей воле.
— Тут паренек не проходил? – вымолвил он с придыханием. – Ну, такой, знаете, паренек…
Вахтерша окинула его сверху вниз. Взгляд ее был презрительный. Верхняя губа подтянулась к носу.
— Тут и пареньки. И не пареньки проходят. И что с того?
— Это такой… Ну, на нем пальто короткое, черное, с поднятым воротничком. И расстегнутое наполовину. Не совсем чтобы черное. Скорее темно серое. А воротник, вот тут, где шея, подтертый слегка.
— Вы кого-то ищите?
Таксист замялся. Ему казалось, что он достаточно убедительно всё объяснил. Тем более, что за это время совсем немного прошло людей в общежитие и из общежития.
— Вот поглядите!
Он протянул суровому церберу корочки. С гордой надписью «паспорт». Крупными золотистыми буквами. Вахтерша распахнула корочки.
— Вы что издеваетесь надо мной? Милицию, может быть, вызвать? Она у нас тут рядом.
— Милицию?
— Зачем вы мне это подаете? Вы думаете, я дура? Что у меня старческий маразм, и я уже ничего не соображаю?
Показала ему пустые корочки. Нижняя челюсть таксиста опустилась, обнажив ровные белоснежные зубы. Таксист понял, что его надули самым наглым и бессовестным способом, его, который надувал пассажиров играючи, грациозно.
Так он в детстве надувал лягушек через соломинку. А сейчас ему аукнулось это живодерство. Началась истерика, он плакал, грозился пойти к самому главному и всё ему рассказать.
В конце концов пообещал спалить общежитие. Если ему немедленно не найдут этого наглеца. Студенты останавливались. Сначала слушали, а потом, поняв в чем дело, хихикали. Почему-то никому не было жалко таксиста, как будто это было существо чуждого им мира. Вахтерша подняла трубку, стала крутить диск. Звук был резкий.
— В милицию звоню!
Милицию таксист не любил. Опыт общения с милицией всегда для него заканчивался неприятностями. К теще он относился лучше, чем к людям в погонах с кобурой на ремне. Поэтому быстро исчез. Резко рванул с места, напугав двух девчушек.
Петров в это время пил чай с домашним вареньем и рассказывал различные случаи из своей армейской практики. У его слушателей такой практики не было. Они поступили после школы. Об этих случаях из его жизни можно было бы написать отдельную книгу. Она, конечно, стала бы бестселлером и практическим руководством для молодых. Боюсь, что ничему хорошему она не научила бы подрастающее поколение, которому партия и правительство отводили роль строителей коммунизма. А рассказы Петрова напротив, даже наоборот, не предназначены для строителей.
Ставлю точку. Хотя… последний штрих к одиозной личности Петрова. Чтобы у читателя не создалось впечатления, что история с таксистом какой-то исключительный случай. И может быть, не один таксист посылал громы и молнии на его голову. А вот посещение РЗД (ресторана «Золотая долина») было не единственным. На какие средства, спросите вы. Его стипендии хватило бы на единственный поход. И то, если сильно не злоупотреблять дорогими блюдами и спиртными напитками. Петров же несколько раз в месяц отправлялся в ресторан, откуда возвращался в изрядном подпитии. И был он тогда весел и сыт, пьяной икотой вызывая восторг у товарищей. Пахло от него дорогим коньяком, вкус которого не знало подавляющее большинство студентов.
Какие только предположения не строили на этот счет! От самых рациональных до фантастических. Злые языки поговаривали, что безлунными ночами он подкарауливает на лесных тропах Академгородка молодых женщин. Непременно симпатичных. Но не только ради удовлетворения своей животной похоти. Иначе он не был бы Петровым. Еще и отбирал у них деньги и драгоценности, которые и спускал с падшими женщинами в ресторане. И всем говорил, что получил наследство от американского дядюшки. Петров на этот счет не откровенничал, что подтверждало самые фантастические слухи. Вскоре вы сами поймете, почему Петров не распространялся на эту тему. Водка только Штирлицу не развязывала язык. А Петров всё-таки еще не дорос до этого легендарного разведчика всех времен и народов. Хотя Петров тоже был неординарной личностью. И кто знает, кем бы он стал, если бы его способности были направлены в положительную сторону. Но всё-таки Штирлица из него не получилось, не дотянул. А поэтому его тайна рано или поздно должна была открыться.
Во время очередной попойки, а у всех было такое впечатление, что ни одна попойка не обходилось без него, он раскрыл секрет, наверно, не желая этого. Но так уж получилось. Секрет был прост, как ленинская правда. Но чтобы дойти до этого, нужно быть Петровым. Поэтому другие студенты, узнав про это, удивлялись, как они не могли дойти до этого своим умом. Что дано Юпитеру, в данном случае Петрову, то не дано другим. Причем тут главное не схема, но исполнение. Самую гениальную идею можно запороть, если не знаешь, как подать ее.
Он приходил в ресторан. Одетый скромно, даже с некоторой элегантностью. Это располагало. Вечер. Субботний день. Музыка. Гам. Веселье. Даже слышна нерусская речь. Столики заняты. Но свободное место для голодного безденежного студента всегда найдется. Главное выбрать правильный столик с правильными мужиками., которые умеют много пить и веселиться. Петров направлялся к ним. Сидят три мужика, изрядно поддатые. Постоянно добавляют, делают новые заказы, громко говорят и клянутся друг другу в вечной дружбе. Знакомая, приятная для русского взгляда картина.
— К вам можно?
Петров был сама галантность. Улыбка его обезоруживала. Только взглянув на него, мужики понимали: это наш человек. Да и место свободное имелось. Пусть сидит! Мужикам это по барабану. К тому же они не о военных секретах говорят. Да и паренек на шпиона не похож. Сейчас для них все люди – братья, особенно те, кто пьет вместе с ними. Петров делал заказ. Потом его еще и угощали. Попробуй откажись! Собеседник он интересный и веселый. За словом в карман не лез. Мог поддержать разговор на любую тему. Мог даже с папуасами из Новой Гвинеи найти общий язык и стать их новым Миклухо-Маклаем, о встрече с которым они будут мечтать долгими вечерами. Наевшись и налившись под завязку, и натанцевавшись с приятными незнакомками, он заявлял новоявленным друзьям, что должен освободить мочевой пузырь, чтобы продолжить обильные возлияния. Они понимающе кивали. С достоинством удалялся, успев по ходу погладить не одну тугую женскую попку.
И всё! Его застольные друзья еще какое-то время вспоминали о нем, а потом забывали. А покидая ресторан, полностью оплачивали счет, в том числе и петровский. Им даже в голову не приходило, что их самым детским образом кинули на бабки.
Можно ставить точку. И оставить Петрова в покое. Сколько же можно: Петров да Петров? Но это было бы нечестно. И по отношению к Петрову и к тем, кто имел несчастье не знать его. Петров – это многогранная личность, творец истории своей и других.
Он не был красавцем. Далеко не был. Сложения так себе. Роста ниже среднего. Вполне заурядная внешность. Пройдете мимо, даже внимания не обратите.
Почему-то представительницы слабого пола, оказавшись в одной компании с ним, начинали чувствовать какое-то беспокойство и волнение. Озирались по сторонам. Так себя чувствует человек, который гуляет по саванне и знает, что за любым кустом может притаиться голодный лев, который своими желтыми злыми глазками следит за его передвижением.
Петров вроде никогда открыто и откровенно не выказывал внимания противоположному полу. Ни с кем не заигрывал, не говорил комплиментов. О подарках и говорить нечего. Его не видели гуляющим под ручку с девушкой. И вообще рядом с ним никого не было. То есть на роль дамского угодника никак не подходил. И даже был уверен, что женщины – люди второго сорта.
Однажды Петров исчез на целый месяц. Месяц – это много. Даже для Петрова. Все терялись в догадках.
Он никуда не пропал. Также регулярно появлялся на занятиях. У него была одна общая тетрадка по всем предметам. Это был какой-то другой Петров. Товарищи не узнавали его. Инертный. На лекциях он частенько дремал, не вступая в полемику с преподавателями по разным вопросам политики партии и правительства. У него на всё имелась собственная точка зрения. Самое главное: не ночевал в общежитии и вообще не показывался там. Только заканчивались лекции, он исчезал, растворялся в неизвестном направлении.
Его расспрашивали, где он, что он. Но он только отмалчивался или бормотал что-то невнятное. Это совершенно не было похоже на Петрова. Такое впечатление, что он чего-то стыдится.
От женского взгляда ничего не укроется. А тем более в таких вещах они настоящие доктора наук. «Он завел себе в городке женщину, — говорил они. – И кажется, влюбился. Он даже перестал лазить за ручкой, чтобы подглядывать нам под юбки. А взгляд у него какой! Отрешенный. Он всё время думает о ней и ждет не дождется встречи».
— Было так! – разоткровенничался изрядно поддавший Петров. И прикрыл глаза и какое-то время молчал. – В доме ученых выступал Эйдельман. Натан. Я никак не мог пропустить этого.
Все согласились.
— Я, конечно, не со всеми его положениями согласен. Например, он утверждает, что…
— Нет! Ты не отвлекайся! – закричали слушатели.
Петровские рассуждения всегда были интересны и оригинальны. Но сейчас всех интересовало другое.
— Да! Ну. Вот… Слушаю я Натана, мотаю на ус. Хотя усов, как вы заметили, у меня нет. Что я считаю одним из своих достоинств, которых у меня не мало. Что вы уже успели заметить. Может быть, мне отрастить усы? Как вы думаете, они придадут мне более академический вид? Что-то в последнее время этот вопрос стал меня занимать.
— Что же это такое? Ты давай рассказывай, Петров! Ты просто невыносим! Не отвлекайся!
— Я это и делаю.
— Ты по существу рассказывай! Зачем нам твои усы сдались сто лет! Да хоть бороду до земли отращивай!
— Я всегда по существу.
— Петров! Ты невозможный человек. Никогда не знаешь, что ты выкинешь в следующий раз.
— Ладно! Ну, вот… А справа от меня через два места сидит молодая особа. Так лет за двадцать пять. Молодая для пенсионеров, а для меня уже и не молодая. Но я не прихотливый.
— Это мы знаем. Тебя и пятидесятилетняя дама устроила бы. Без обид, Петров! Ходит слух, что ты однажды чуть на пенсионерке не женился.
— Не отвлекайте меня! Не сказать, что она была красавица. Нет! Довольно крупный нос. Но так ничего себе. И фигурка даже есть. Формы что надо. Всё в полном наличии. Дело не в этом. Было в ней что-то необычное. Какая-то изюминка. Загадка. Как она смотрела на Натана! Взгляд такой влюбленный. Сразу стало понятно, что ей нравятся умные мужчины. Это уже вдохновляло и окрыляло, как выразился один поэт. Зафиксировал и ладно. После лекции иду на остановку. Шлепать такую даль совершенно не хотелось. Да еще и темень такая. По партизанским тропкам нетрудно и заблудиться. Слякоть. Такой мокрый снег с ветром. Мерзопакостная погода, когда от всей души начинаешь завидовать итальянцам. Стою на остановке. Никого нет. От этого стало еще грустней. Как будто я один во всей вселенной.
Петров попытался изобразить мировую печаль.
— Одна дамочка в уголке жмется. Я на нее сначала внимания не обратил, погруженный в собственные ощущения. Потом слышу за спиной: «Ой! Да когда же он придет? Это уже становится просто невозможно. Никакой заботы о людях».
Узнаю эту дамочку, что видел в Доме ученых.
— Может и вообще не прийти.
— Как так? – напугалась она.
И побледнела. Хотя в темноте лица не разглядишь. Но я был уверен, что она побледнела.
— Знаете, я как-то раз в мороз прождал автобус четыре часа. Мне даже хотели ампутировать ноги. Перемерз в общем. Месяц проболел. Но здоровый организм победил.
— Ужас какой! Что же делать?
— Я бы, конечно, поймал для вас такси. Но сами видите, ни одного. Наверно, уже дрыхнут.
Хоть и было темно, вижу, что взгляд у нее восторженный. Так, наверно, Магдалина смотрела на миссию.
— Легче достать звезду, чем такси. Хотите достану для вас звезду? Я этого никогда еще не делал.
У нее глаза большие, черные. Красивые глаза. если бы я был поэтом, то сравнил бы их с бездонным омутом.
В глазах такой интерес! Даже не интерес, а желание продолжать со мной знакомство до скончания века. Некоторые это называют любовью с первого взгляда. И тут она говорит:
— Я, наверно, пешком пойду. Я не хочу, чтобы мне ампутировали ноги. Думаю, что они мне еще понадобятся.
— Далеко?
— Да три остановки.
— Далековато! – киваю. – Конечно, для марафонца это пустяк, но не для такой прелестной девушки. Знаете, что? Наверно, мне придется вас проводить. Возражения не принимаются. Пустынно. А если попадутся пьяные хулиганы. Не буду даже рассказывать, что произойдет дальше. Потом всю жизнь я буду винить себя и умру скоропостижно от горя.
— Как же вы узнаете, что на меня напали пьяные хулиганы, если вас не будет рядом?
— Непременно они нападут на вас. Как говорил один мой хороший интеллигентный друг: зуб даю. Вы очень красивая. И… беззащитная. Ни один хулиган не пройдет равнодушно мимо.
Разве после всего сказанного мною она не могла влюбиться в меня до безумия, потерять от любви голову? Разбивать ее сердце неразделенной любовью было бы не по-рыцарски.
— Ты остался у нее?
— А знаете, какие она вкусные пирожки печет? Только мама умеет вкуснее. Я сейчас подавлюсь слюной.
— А еще она тебя чем кормила?
— У нее кофе настоящее. Я не поверил сначала. Смотрю на упаковке написано «Бразильское кофе» на бразильском языке. Мне в постель приносила. Каждое утро, как только я просыпался. Вот теперь вы всё знаете?
— Но почему же вы тогда расстались, если всё так было хорошо? Разлюбил? Или она остыла?
— Мы бы не расстались. Ну, может быть, и расстались бы. Но потом. Я не верю в вечную любовь. Если бы мне дорогу перебежала другая симпатичная брюнетка, то вполне может быть, что я бы бросился за ней. Может быть, блондинка или шатенка. Без разницы. Главное в женщине не цвет волос и бровей. По собственному опыту это знаю. Как-то прекрасным утром – я как раз пил кофе в постели – она сообщила мне, что сегодня вечером возвращается ее муж. Совершенно буднично, как о разбитом стакане.
— Как?
— Каком вперед… Чего тут непонятного?
Петров заметно нервничал. Было понятно, что он недоволен был собой за то, что рассказал эту историю.
— Он капитан дальнего плавания. По морям, по волнам. Нынче здесь. Завтра там. По морям…
Стало тихо. Петрову налили полстакана водки. У него было лицо страдальца. Это выглядело необычно. Выпил. Даже не стал закусывать. Ни на кого не глядел, вперив взгляд куда-то в угол.
Пожевал рукав. Он был среди нас. Но достаточно было заглянуть ему в глаза, чтобы понять, что он далеко-далеко от нас, где-то там в облаках, где порхают души несчастных влюбленных.
Вот и всё о Петрове. И так ему слишком много внимания и чести. Хотя и есть за что. Я имею в виду не честь. А в прочем, он же был по-своему честен перед собой и никогда не изменял своей натуре.
8
КАК ПРАВИЛЬНО СДАВАТЬ БУТЫЛКИ
Были времена, когда стеклянная бутылка представляла ценность. В том числе и материальную. Вы где-нибудь в парке присядете на скамеечке в летнюю жару, чтобы порадовать себя бутылочкой лимонада «Буратино» или жигулевским пивом. Сорвали металлическую крышечку о край скамейки. Тут же перед вами возникает не очень опрятная фигура и терпеливо ждет, когда вы освободите бутылку. Изредка бросает на вас косые взгляды. Пустая бутылка тут же перекочевывает в сетку. Довольный сборщик тары неторопливо удаляется.
Территория строго делится на участки. Переход границы грозит нарушителю неприятными последствиями. Между неопрятными сборщиками бутылок шла непрекращающаяся война. В ход пускались все средства: от словесной перебранки до кулаков. Границы нужно было бдительно охранять. Особенно не жаловали новичков.
Перенесемся в студенческое общежитие номер пять. Здесь. Как по всему студгородку, действовал строгий сухой закон. До горбачевского указа еще было далеко. Так что последний генеральный секретарь был всего-навсего жалким плагиатором. У нас суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Иначе народам России было бы просто не выжить. Некоторые законы без слез умиления читать невозможно. Не был исключением и сухой закон. Наши законодатели, сами знаете, не сильны в истории.
Четверка сидит в комнате. Суббота. Закончилась ударная учебная неделя. Хочется расслабиться. Воскресенье впереди. В желудках пусто. В карманах ветер гуляет, доставляя неприятности заарканенной вше. Жизнь представляется сплошной мировой скорбью. Ужинать придется только хлебом с пресной водой из крана. Сыт не будешь, но и от голода не умрешь. Можно кипяточек нагреть. Попить чаек, потешить желудок. Если удастся у кого-нибудь стрельнуть заварки и сахарку. Это не всегда удается.
Такая перспективка! Конечно, в молодых головах рождаются разные проекты. Даже фантастические. Все какие-то ущербные. Одному предлагают загнать часы. К чему они на голодный желудок? Это отцовский подарок на совершеннолетие. Папа снял их с собственной руки. И больше трешки не дадут. На стекле трещина. И ход стрелок непредсказуем.
На раз хватит поужинать с портвешком. Но владелец часов наотрез отказался расставаться с родительской реликвией.
Можно, конечно, ночку поработать на Вокзале-Главном. Но на голодный желудок какие из них грузчики? По мешку отнесут и упадут. Красивые и молодые. Очень привлекательная картина! Занять? Это даже не смешно. Только народ насмешишь. Он у нас очень смешливый! Ему только палец покажи, будет по полу кататься и давиться смехом.
Безнадега… Поднимается длинный худой второкурсник и роется у себя в встроенном шкафу в вещах. Выворачивает все карманы, ощупывает подкладку, заглядывает под стельки ботинок.
Прощупывает прокладку. Может быть, в дырочку что завалилось. Но чуда не происходит. Тут комнату оглашает радостный вопль. Все напуганы, хотя вопль и радостный. А их товарищ подпрыгивает чуть ли не до потолка. Глаза его искрятся оптимизмом.
— Ну, мы и идиоты?
— А что сразу «идиоты»? Сколько нашел? Ну, чего не покажешь? Зажилить хочешь?
— Выше крыши!
Лица светлеют. «Выше крыши» — это хорошо. Значит, сегодня никому не грозит голодная смерть. Счастливые лица! А спаситель начинает выставлять из шкафа одну бутылку за другой. Вскоре перед ним целая батарея. Даже не верится, что они выпили столько.
— И что это значит? – спрашивают его товарищи. – Что ты этим хочешь сказать? Поделись!
— Наш ужин, наш портвейчик и даже поход в кинотеатр. Когда вы в последний раз смотрели фильм? Не знаете, что там сегодня дают. А в прочем, зачем я задаю такой вопрос.
Еще ни разу они не сдавали бутылки. Здесь в Академгородке. И не очень представляют, как это можно сделать. Пункт приема находится далековато. И там они не бывали до сих пор. Ехать на автобусе? Но чтобы ехать на автобусе, надо иметь деньги. И немалые, потому что их четверо. Четыре умножить на шесть копеек получается двадцать четыре. Чтобы иметь деньги, надо сдать бутылки. Получается замкнутый круг.
Им грустно.
— Ну, пойдем пешком. Как давно мы не бродили по сосновому бору. Представляете, какой воздух! Сдадим нормы ГТО по переноске тяжестей быстрым шагом. Одновременно и по туризму. Давно мечтал стать туристом. И вот такая возможность представилась.
Им даже подумать об этом страшно. Пешком в неведомую даль по лесным тропам? Но другого выхода нет. Разве что спросить у кого-нибудь ковер-самолет в общежитии?
Не только в шкафу, но и на антресолях, и в тумбочках, повсюду были бутылки. И под кроватями. «И когда они успели выпить?» — снова подумал каждый. Не инопланетяне же здесь пили? А ведь до этого были уверены, что они почти непьющие, так изредка позволяют себе пригубить несколько капель. Но действительность оказывается иная.
Сумки и сетки загружены бутылками. Пришлось даже позаимствовать у соседей пару вместительных сумок, в которых привозятся домашние припасы. Наша четверка выходит. Руки заняты, на спинах рюкзаки. И не просто выходят, а выходят на тропу наживы, вирус которой заразителен.
Весело звякают бутылки, как будто они радуются, что наконец-то попадут в верные руки. Они любят путешествовать. Жизнь бутылки, если ее не разобьют, развивается циклически. Звонкий разговор бутылок привлекает внимание обитателей общежития. Появляются любопытные, их удивленные взгляды устремлены на нашу четверку. Со всех сторон им предлагают бутылки. К сожалению, пустые.
— Заберите! А то скоро и ногой ступить будет некуда! Ну, пожалуйста, ребята! А мы вас вечером чаем напоем.
Когда вахтерша увидела нашу четверку, обвешанную с ног до головы сетками, сумками и рюкзаками с пустыми бутылками, то потеряла дар речи. Многое она повидала на своем веку, но такое впервые. Широко открытыми глазами она проследила их путь до выхода.
После того, как она пришла в себя, то первым ее побуждением было задержать их, вызвать милицию. А если это преступление? Хотя и все знакомые лица, но кто их знает. Но здравый смысл подсказал ей, что не стоит этого делать, что так она себе сделает только хуже. Бутылки выносятся, а не заносятся. Если бы они несли бутылки в общежитие, тогда было бы другое дело. К тому же бутылки пустые. А сухой закон касается бутылок со спиртным. А значит, этот самый закон здесь никак не применим. И можно даже этот случай рассмотреть, как положительный, поскольку ребята очищают общежитие от скверны. И может быть, этих парнишек еще и наградить надо за их благородный поступок. Вон как они пыхтят и пыжатся. И спины у них мокрые.
Активность в этой ситуации могла выйти боком.
— А откуда в общежитии такое количество бутылок? – непременно спросил бы Адольф Иванович. – Значит, вы не исполняете своих прямых должностных обязанностей. Я буду вынужден поставить вопрос о вашем служебном соответствии. У нас в студгородке, о чем вы прекрасно осведомлены, действует сухой закон. И мимо вас проносят спиртное.
Адольф Иванович Гросс – это глыба. Говорил он мало, но всегда по существу. На нем постоянно был строгий черный костюм, белоснежная рубашка и темный галстук.
На ветер он слов не бросал и все свои обещания выполнял. Поэтому, когда он говорил, его не слушали, а внимали ему.
Наша четверка, обливаясь потом и вспоминая недобрым словом картину Репина «Бурлаки на Волге», тащилась по лесным тропинкам. Это было поближе и не привлекало внимания. Нужно было смотреть под ноги, чтобы не запнуться о какой-нибудь сучок или корень. Но зато прохожие попадались крайне редко. И сразу шарахались в сторону.
Падение грозило боем посуды и потерей дохода. Поэтому четверка проявляла всевозможную осторожность.
Перешли через дорогу, прошли жилой квартал и снова погрузились в лес, где на них недоуменно глядели белки, не понимая, как эти существа могут издавать такой музыкальный перезвон.
В конец убитые доплелись до приемного пункта. Вздохнули полной грудью. Вот оно воздаяние за труды! Но то, что они увидели, повергло их в полное отчаяние. Почему судьба к ним так неблагосклонна? Очередь, как лесная тропа, по которой они прошли, извивалась. Начало ее терялось вдали возле одноэтажного зеленого сарая. Причем здесь стояли не только неопрятные особы, но и мужчины, выглядевшие, как доктора наук, и субтильные дамочки, место которых не в приемных пунктах, но в приемных начальников.
Они наглядно осознали масштабы того, что Владимир Ясное Солнышко называл «веселие Руси есть пити». Конечно, они знали, что у нас пьют, но не в таких же масштабах! Им было не привыкать к очередям. Они были везде. Но с такой они столкнулись впервые. Это даже не очередь, а какое-то Вавилонское столпотворение, исход из Египта. Обреченно переглянулись и вздохнули. Не тащить же драгоценную тару назад. На это уже не оставалось никаких сил. Да и никто не мог дать гарантии, что в другие дни очередь будет меньше. Конечно, можно закопать драгоценный груз в ближайшем лесочке, сверху закидать лапником и поставить веху. Где вот только взять лопату? Они же не кроты, чтобы копать подземные ходы носами. Сейчас же им хотелось кушать. И очень сильно. Самый смелый из них робко спросил:
— Последний кто?
Его не услышали. Он спросил громче. В конце концов не все же здесь глухонемые.
Мужчина в рабочей спецовке ухмыльнулся.
— Последних у нас нет. У нас все первые. Разве об этом вам не говорят в ваших университетах?
— Я имел в виду «крайний».
— -Ага! – кивнул мужчина. Обнажил кривые желтые зубы. – Кто же захочет быть крайним? Тянуть за всех! Не! Парень! Крайних ты тут не найдешь. Ищи в другом месте.
Бывают такие противные типы, они лишены всякого сострадания. Им бы только похохмить. Повернулся старичок.
— Ета… ребята! Кладовщица сказала, чтобы … ета… очередь не занимали. Вот так ета!
— Не занимать?
— У нее рабочий день кончается… ета… Она тоже человек. Муж, наверно, есть, дети.
— Кончается? Еще время-то!
— А народу сколько… ета…У всех не успеет принять. Чего же зря стоять, время тратить? Глаз у нее наметанный. Видит, сколько времени займет… ета…Так что, ребятки, на этом деле она собаку съела.
Друзья завыли. Не громко, но те, кто стоял рядом, слышали. Но никто им не сочувствовал. Нужно было им выть громче. Может быть, очередь напугалась и пропустила их вперед.
Они были не только голодными, но и стеснительными.
— И куда нам теперь всё это?
Они с ненавистью посмотрели на бездушную гору бутылок, которая еще совсем недавно им обещала сытный ужин с портвешкой.
К ним подошел неопрятный мужчина, которых было немало в очереди и вокруг очереди. Монблан тары его впечатлил. Он покачал головой, поцокал языком, явно одобряя ребят.
— Сочувствую!
Он произнес это без всякого ехидства, чем сразу вызвал к себе симпатию. И что с того, что неопрятный?
— Да мы в первый раз здесь. Если бы знали, то с утра бы заняли очередь, — оправдывались ребята.
Мужичок согласился.
— Трудно жить на свете пастушонку Пете. Трудно хворостиной управлять скотиной.
Ребята насторожились.
— Вы что поэт?
— Какой я поэт? Вот Есенин – это поэт. Маяковский – поэт. Твардовский – тоже поэт.
— Конечно.
— Могу помочь, ребята.
— Чем?
Издевается он что ли? Ну, что за народ такой негуманный пошел?
Умри от голода, только похохатывать будут.
— Поможете бутылки назад отнести? Так нам нельзя назад. Никто нас с бутылками не впустит.
— Назад-то зачем? Вперед!
— Как вперед?
— У меня очередь занята. А мне сдавать-то почти нечего. Могу уступить. Жалко мне вас. У меня тоже сын учится. Может, ему тоже кто-нибудь поможет. Свет не без добрых людей.
До них дошло. Они уже давно знали, что некоторые предприимчивые граждане специально занимают очередь. Без разницы куда. Чем длиннее очередь, тем дороже ее можно было продать. Они стояли в магазин, к врачу, к уличному лотку, в железнодорожные кассы. Потом очередь сдавали. Небескорыстно, конечно. То есть продавали.
Но все равно воспрянули духом.
— Да мы… да мы… да мы на бутылку вам дадим! Вот! Спасибище вам огромное! Спасли вы нас!
— На бутылку мне не надо.
Мужичок поморщился.
Им стало стыдно, что они такого плохого мнения о человечестве. И под рубищем может скрываться благородное сердце.
— Понимаем! Извините! Мы не хотели вас обидеть! – бормотали ребятишки, нежно улыбаясь.
И вот кто-то после этого имеет наглость утверждать, что бескорыстные натуры ушли в прошлое. По их ницшеанскому восприятию человеческой природы был нанесен удар. Только глупый человек не меняет своего восприятию. Умный меняется, как река.
Мужичок приложил палец к губам и тихо произнес:
— Фифти-фифти! Вы, как интеллигентные люди, понимаете, что я имею в виду? Не так ли?
Самый сообразительный поскреб в затылке.
— Это как?
— Ну, напополам. Чего же тут непонятного? Я тут, можно сказать, с самой ночи стою.
— А не жирно будет?
— Я же не настаиваю. Я предлагаю, а дальше вам решать: согласиться или отказаться.
Лицо мужичка погрустнело.
— Другие еще больше берут. А я по-божески.
— Мафия какая-то. А, может быть, десять процентов? Тут такая гора, сумма приличная наберется.
— Зачем мафия? Помощь ближнему своему.
Наверно, это был доктор каких-нибудь наук. Ни одного матерка не вырвалось из его уст.
— Черт с тобой!
— Не поминайте всуе черта, молодые люди! Следуйте за мной! Говорить буду я. Вам молчать!
Они стояли почти в начале очереди. Перед ними было всего лишь пять человек. И предвкушали! И ликовали! Но оказалось – рано. Как только они подошли к окошку, кладовщица в синем халате сказала вяло, как будто даже не им, а неодушевленному предмету:
— Закончилась тара.
— Это что?
— Не повезло вам, ребята. Увы!
— Да что же это такое? Милостыню нам что ли просить? Мы кушать хотим, в конце концов!
— Милостыню? А зачем?
Перед ними вырос еще один неопрятный тип. Только он был еще неопрятней. И уже никак на доктора наук не тянул. Повыше первого. Следы интеллекта отсутствовали. А поэтому он вызывал доверие. Этот не будет читать стихи. Речь его конкретна и выразительна.
— Помочь?
Он заглянул всем четверым в глаза. по очереди. Ободряюще. Но без заискивания.
— А ну пошли, пацаны!
Не дожидаясь согласия, мужик пошагал прочь от очереди. За грунтовой дорогой стеной высился кустарник. Пришлось продираться через кусты. Пахло человеческой нуждой. На полянке стояли почерневшие от скорби ящики. Некоторые скривились, как будто их кормили лимонами. Под двадцать бутылок каждый.
— И? – спросили ребята, понимая, что благотворительностью здесь никто не занимается.
— От выручки половина.
— Но мы половину должны за очередь.
— Ты смотри, что барыги делают, — простонал мужик. – Совсем совесть потеряли. Элементарную. Давайте так!
Мужичок задумался. Знакомым жестом поскреб затылок. На лбу заметно зашевелились мысли.
— По минимуму беру. Тем более, что вы задолжались. Меньше никак. Извините. Амортизация. То-сё. Значится, пятьдесят прОцентов.
Так и сказал, с ударением на первом слоге. Ребята вздохнули. Чесанье затылков тут не поможет. Придется забыть о портвешке.
— Ладно! Берем ящики! Они не рассыплются? Что-то вид у них какой-то нетоварный.
Они радостно поставили ящик перед кладовщицей. Она флегматично произнесла, олицетворяя олимпийское спокойствие, что характерно для разведчиков и приемщиц тары:
— У вас есть совесть?
— А при чем тут совесть?
— А при том, что рабочий день у меня закончился. Или вы думаете, что я не человек?
Они стали умолять ее. Убеждали, что они не ели уже третий день. И теперь вопрос стоит так: быть или не быть. Ссылались на то, что смерть от голода самая мучительная, что у нее наверняка есть дети и, конечно же, они где-то учатся и тоже верят в человеческую доброту. На суровом лице не дрогнул ни один мускул. Она подняла руку, чтобы закрыть окошко. Последняя надежда через мгновение испарится.
— Ладно!
В глазах ее блеснуло что-то человеческое. Может быть, вспомнила своих детей, которые сейчас без мамки.
— Своим свободным временем жертвую. Хотя мне за это никто не платит. Со всех сторон только «давай, давай»!
Помолчав, тихо спросила:
— За полцены?
— Как за полцены? Извините, но у вас же прейскурант, то есть ценник должен быть.
— Как хотите! Хозяин – барин.
— Хотим! Хотим! – испуганно закричали они хором. – Вот, пожалуйста, пересчитайте!
Стали загружать и передавать ящики. Кладовщица из каждого ящика выхватывала несколько бутылок: то скол, то коричневая – не принимаем, то «чебурашка» — бутылка с особыми плечиками. Непригодную тару отставляла в сторону.
Возвращались в родное общежитие теми же партизанскими тропами. Можно было бы идти по тротуарам. Но они дружно отвергли этот вариант. Радовало, что налегке. На поход в столовую рассчитывать не приходилось. О котлетках по-прежнему оставалось только мечтать. В универсаме купили булку хлеба, по пакету молока на каждого и по плавленому сырочку. Опустив головы, прошли мимо винного отдела.
Вечером они уж точно не умрут голодной смертью. О будущем дне хотелось думать. Будет день – будет пища. Мудро сказано. Автор этого афоризма, конечно, был студентом.
9
УЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ, А ТАКЖЕ ЛОЖКИ, ВИЛКИ, СТАКАНЫ И ДАЖЕ СОЛОНКИ
Согласен! Название длинное. Так не принято. Это в восемнадцатом веке писатели соревновались, кто даст более длинное название своему роману. Если у читателя хватало терпения прочитать название, дальше он мог не читать. Терпеливые же читатели, потратив часок-другой на чтение названия благополучно добирались до первой главы. И уже полные энтузиазмы погружались в содержание, которое в общих чертах им уже было известно.
Каюсь. И даю обещание, что такого больше не повторится. Заголовки будут короткие, как выстрел. Поверьте, на этот раз никак… Фу! Кажется, объяснился. Могу ли я продолжать дальше? Сразу беру быка за рога. На этот раз этим быком будет Гросс Адольф Иванович, заместитель ректора по хозяйственной части. Правая рука ректора. Легендарная личность. И почти историческая. Если историю университета напишут, его имя нужно запечатлеть золотыми буквами. Не было студента, которому бы не пришлось столкнуться с ним хотя бы на пару секунд. Но это мгновение оставалось с ним на всю жизнь. Поэтому у сотен, тысяч людей он навечно запечатлен в памяти. А это – согласитесь – что-то значит. Очень много значит!
Что бросалось в глаза? Не могло не бросаться? Это рост Адольфа Ивановича. Если бы вы его увидели на расстоянии со спины, то решили бы, что идет какой-то четвероклассник. Говорят, в таких случаях, полтора метра с кепкой. Но Адольф Иванович носил шляпу. Только черную, которая его несколько возвышала и указывало на то, что он вполне взрослый. Маленького хочется пожалеть, приласкать и посюсюкать с ним. Поэтому дети не любят больших кукол и смотрят на них с подозрением. Адольф Иванович такие глупые чувства не вызывал. Он него веяло взрослостью, серьезностью и неотвратимостью наказания. Его просто боялись. И технический персонал, и студенты.
Вы ощупали себя, как лилипут перед Гулливером. Даже поглядывая на него сверху вниз.
Убежать, спрятаться, зажмурить глаза и надеяться только на чудо, что Адольф Иванович не найдет вас. Вот что испытывал каждый, кому приходилось столкнуться с ним.
У него была длинная голова. Лысина сверкала, как нимб святого. Может быть, он ее смазывал. Только над ушами с сзади тянулась полоска черного жесткого волоса. Это было чертовски страшно. Блестящая лысина и чёрная полоска волос сзади и над ушами. Нос нависал над маленьким ротком. Он был настолько мал, что его можно было кормить только чайной ложечкой. Адольф Иванович всегда ходил в черном костюме, белой рубашке и сером галстуке. Пиджак был застегнут на все пуговицы. Из нагрудного карманчика торчал уголок белоснежного платочка.
Лакированные туфли его блестели даже в ненастье. Грязь просто боялась прилипать к ним. Под микроскопом вы не нашли бы на них ни единой пылинки. Это была еще одна загадка Адольфа Ивановича.
Адольф Иванович был необычайной личностью. В том смысле, что никто и ничего о нем не знал наверняка. Не знали даже, где он жил и была ли у него семья. И вообще какой он национальности. Не знали какое у него образование. Кто-то говорил, что он чуть ли не академик.
Не знали даже, сколько ему лет. В таких случаях говорят: маленькая собачка – всю жизнь щенок. По количеству легенд он бы мог конкурировать с Гераклом или Ахиллесом. Но при этом оставался предельно скромным человеком. Тихим и немногословным.
Говорили, что фамилия у него не настоящая. Ну что такое Гросс – большой? Насмешка что ли? Если какой-нибудь Кляйн, всё понятно и никаких претензий, и вопросов. Настоящая же его фамилия – не к ночи будь помянут – как и у бесноватого фюрера. Да и вообще он его сын от Евы Браун, которого тайно вывезли после войны.
Так вот те, кто говорил, что он академик и член-корреспондент, еще и утверждали, что он написал несколько солидных монографий. Но под псевдонимами, поэтому отыскать их невозможно. И только узкий круг знает, что это его труды.
Одни говорили, что он математик, а другие, что он историк. А кто-то, что у него всего семь классов за плечами. Но арифметику он знает хорошо и в уме перемножает трехзначные числа. На должность заместителя ректора по хозяйственной части он попал благодаря мохнатой руке, которая была у него на самых верхах.
Можно было услышать и такое, что он офицер КГБ. И вообще на такие должности назначают только из «конторы». Этим и объясняется его таинственное поведение. То, что Адольф Иванович ничего о себе не говорит, вроде как подтверждало эту версию. Перед ребятами из «конторы» у всех был мистический трепет. Но разве нельзя быть просто скромным человеком и не заниматься всегда и повсюду самовосхвалением?
Главной своей задачей он считал очищение общежитий от скверны. Под скверной он понимал любое нарушение инструкций. Время от времени он делал рейды по общежитиям. Появлялся внезапно, как снег на голову, как гром среди ясного неба.
Комендантши его панически боялись. И сразу из львиц превращались в пушистых зайчиков. Это трудно представить, но было именно так. Хотелось гладить их по голове и шептать им какие-нибудь глупости. Они семенили рядом с ним в полупоклоне, чтобы не пропустить ни единого его слова. Он никогда не повторял, говорил тихо и по делу. Не повышал голоса. Речь его звучала монотонно. Но ни единого лишнего слова, слов-паразитов, лирических и прочих отступлений. Всё конкретно.
Комендантши завели блокнотики, чтобы записывать ЦУ, выдаваемые Адольфом Ивановичем. На обложках блокнотиков крупными буквами было написано ГАИ. То ли комендантши сговорились между собой?
Память у него феноменальная. Никто и никогда не видел, чтобы он пользовался какой-нибудь бумажкой. Некоторые сомневались, умеет ли он вообще писать. Умеет. Но они никогда не делал этого публично. С записями, тетрадками его не видели. После обхода он писал подробнейшие отчеты на имя ректора. Ни одной детали не упускал. Ректор всегда знал в мельчайших подробностях, что происходит в общежитиях. Поэтому не было никакой необходимости посещать их. Если и так всё знаешь!
Вот зимним вечерком, когда студенты, научившись, нагулявшись, сидят по своим коморкам и грызут камень науки или что-нибудь посъедобней, Адольф Иванович нагрянул в «пятерку». «Пятеркой» называют общежитие, где живут гуманитарии. «Нагрянул» — это, конечно, громко сказано.
Увидев его, когда он выбивал снег из шапки, вахтерша вытянулась в струнку и потеряла дар речи. Войди сейчас генеральный секретарь ЦК КПСС, она бы не почувствовала такого волнения. Адольф Иванович поздоровался и указал пальцем на дверь комендантской. Зачем говорить лишние слова, если для этого есть лаконичные жесты? Вахтерша пошевелила губами. Адольф Иванович исчез за дверью.
Что там происходило, нетрудно догадаться. Вахтерша представила эту картину и злорадно усмехнулась. Тихо поздоровавшись, Адольф Иванович расстегнул пальто и, приподнявшись, повесил его на вешалку. В каждой комендантской стояла металлическая вешалка с пятью рожками. Комендантша Алена Ивановна стояла на вытяжку и мучительно соображала, успел ли раствориться табачный дым. Адольф Иванович, конечно, не курил.
Вышли. Адольф Иванович мягко ступал по коридору. Алена Ивановна соблюдала субординацию и семенила сзади. Встречавшиеся по пути студенты вжимались в стены, хотя коридор был достаточно широк, чтобы разминуться. Никто не улыбался и не шутил. Адольф Иванович чуть кивал головой студентам и студенткам и тихо выговаривал:
— Здравствуйте!
Произносил даже непроизносимую согласную. Некоторые пробовали это сделать, получалось не очень.
Алена Ивановна и Адольф Иванович поднялись на второй этаж. По лестнице впереди шла комендантша.
— Все комнаты проверяем? – спросила Алена Ивановна.
— Если мы все комнаты будем проверять, то и за неделю не сделаем этого, — сухо ответил Адольф Иванович. – Да и смысла нет всех проверять. Не успеем мы выйти из первой комнаты, как уже все будут знать об этом.
Алена Ивановна радостно закивала.
— Конечно! Конечно!
— Вот сюда!
Адольф Иванович показал подбородком на дверь. Двести двенадцатый блок. В большую комнату.
— Девушки в двушке. В большой комнате юноши. Второкурсники, — прошептала Алена Ивановна.
— К ним и пойдем.
Алена Ивановна деликатно постучала, что было для нее совершенно нехарактерно.
— Молодые люди! Не были ли вы столь любезны показать содержимое своих тумбочек?
Адольф Иванович был сама вежливость. Даже тень улыбки не освещала его сурового лика. Было такое впечатление, что он родился с каменным лицом. «Сурьезный человек!» — как говорят в деревне. Глаза его, как рентген, просвечивали каждого насквозь. И люди начинали волноваться, чувствовали какую-то определенную тревогу. Один из второкурсников осмелился спросить:
— Зачем?
— Вопросы потом, — тихо произнес Адольф Иванович. Но это прозвучало как приказ. – Буду задавать вопросы я. А вы соизвольте отвечать правду и только правду.
Ребята почувствовали, что тут какой-то подвох. Ищут плитки, кипятильники или спиртное. Правда, горячительные напитки распивались сразу, как только заносились. И тут они были спокойны. Послушно распахнули тумбочки. Потому что ни первого, ни второго, ни третьего в них не было. Электроприборы после каждого употребления прятались. Они были уверены, что им бояться нечего. И шмон не принесет результатов.
Были выставлены стаканы, тарелки, выложены ложки и вилки. В одной тумбочке обнаружилась перечница.
— Молодые люди, как вы можете объяснить происхождение этой посуды? Я ожидаю ответа.
По очереди заглянул в глаза каждому.
— В смысле? – спросил самый храбрый. По крайней мере, он считал себя самым храбрым.
— Ежемесячно мы вынуждены закупать посуду для столовой, — ровно, как о чем-то постороннем говорил Адольф Иванович. – Каким-то чудесным образом она исчезает. А эти средства мы могли бы пустить на другие нужды. А их поверьте у нас не мало. Средств катастрофически не хватает. Приходится во многом себе отказывать. Те же продукты для столовой, ремонт, закупка литературы. А вместо этого мы покупаем каждый месяц посуду. Мало ли на что можно было потратить.
— А мы при чем?
— Как вас зовут. Молодой человек7 Представьтесь! Ваше имя, фамилия, группа. Если, конечно, это вам не трудно.
— Вовик. То есть Вова.
— Владимир! Откуда у вас эта посуда? Вот эта, что вы только что выставили из своей тумбочки.
— Купил.
— Но зачем вам три стакана, три тарелки, три ложки и почему-то целых пять вилок?
— Ну…
— Точно такая же посуда и в нашей столовой. Не потрудились бы вы объяснить этот факт?
— И в магазине такое же продается.
— Согласен. Но зачем вам пять вилок? У вас регулярно бывают гости? И поэтому вы держите такое количество посуды?
— Ну…
— Мы забираем у вас посуду. Пока делаем вам устное предупреждение. Мне кажется, что вы вполне благоразумный человек. В следующий раз… надеюсь, его всё-таки не будет… последствия будут более серьезными. Не будем доводить до этого.
— Адольф Иванович! Но мы…
— Молодые люди, но вы комсомольцы, надежда нашей передовой советской науки. Пора уже научиться отличать детскую шалость от преступления. Я понятно выражаюсь?
— Понятно, Адольф Иванович. Мы больше не будем, честное комсомольское!
— Надеюсь! Алена Ивановна заберите посуду. Акт изъятия писать не будем. Они же добровольно отдали.
Они вышли. Алена Ивановна – она держала перед собой коробку с посудой, придавив ее сверху мощной грудью – восторженно воскликнула, почти влюбленно глядя на Адольфа Ивановича:
— Вы, Адольф Иванович… у вас какое-то чутье.
— Это не чутье, Алена Ивановна. Я же не собака какая-нибудь, а разумное существо. Хищения приобрели массовый характер. Я собственными глазами убедился в этом. Сел за дальний столик и стал наблюдать. Время было обеденное. Народу много. От меня в нескольких шагах сидела шумная четверка молодежи. Нет, не эта. Громко разговаривали, смеялись, а когда отобедали, один из студентов открыл портфель, который стоял возле его ног. И сложил туда посуду. Всю, которая была на столе. Мы несем убытки. Конечно, списываем на бой. Но это не выход, согласитесь. Мы не можем завышать эту статья. Это нарушение финансовой дисциплина. Вы умная женщина и знаете, что на всё есть нормативы, которых мы должны строго придерживаться. Как вам известно, виновники могут понести наказание, вплоть до уголовного. Вот такая, милейшая Алена Ивановна, картина, которую мы имеем.
— Отберем! Все тумбочки прошерстим, Адольф Иванович! Да мы им покажем!
Она хотела погрозить кулаком, но вспомнила, что в руках у нее коробка. На лице Адольфа Ивановича никаких эмоций.
— Если только отбирать, то тогда у нас ни на что иное не останется время. Но дело даже не в этом. Нужен комплекс мер.
Через несколько дней в столовой появились плакаты, написанные яркой гуашью на полосах ватмана. Плакаты висели в холле, в раздевалке, в буфете и в зале столовой.
«Красть посуду из столовой может только нездоровый».
«Если ты украл стакан, значит, ты большой болван».
«Тарелки, вилки, ложки к себе в портфель не ложь ты!»
«Если ты украл посуду, презирать тебя я буду».
Над плакатами смеялись и придумывали свои. Студентам, как известно, палец в рот не клади.
«Украл вилку, сэкономил на бутылку».
«Больше не буду воровать посуду».
«Посуда принадлежит всем и каждому».
Стаканы и тарелки бились не только в столовой, но и в общежитии, особенно после стипендии и праздников. Поэтому наиболее дальновидные держали под рукой запас. Ложки и вилки элементарно терялись. Кто-то брал. Поэтому тоже требовали пополнения.
Если Адольф Иванович за что-то брался, то уже не отступал. Это только фамилия с именем ему достались немецкие. Но характер был русский. А русские не отступают. Столовские работники несколько дней трудились сверхурочно. Это было что-то вроде коммунистических вечерников. Маркировали масляной краской посуду. Кривая краж резко поползла вниз, дошла почти до нуля, остановилась, задумалась и стала ползти вверх. Не очень быстрыми темпами, но вверх. Нововведение не помогло. Студенты соскабливали краску. Конечно, лишние хлопоты, но на что не пойдешь, когда в стипендию не заложена статья на покупку посуды. А кушают студенты не только в столовой, но и в общежитии. А некоторые в основном в общежитии.
На ложках и вилках стали выцарапывать букву С. Столовские работники матерились, потому что сверхурочных им не выплачивали. Но не выполнить приказа Адольфа Ивановича они не могли. Ни у кого даже в мыслях такого не было. Хотя Адольф Иванович был мягок в общении.
Как быть с тарелками и стаканами? Адольф Иванович долго ломал голову, но ничего придумать не мог. Для него это было невыносимо. Из любой ситуации он находил выход.
Как-то он обедал в столовой. Тарелка оказалась с щербинкой. Как будто кто-то грыз край. Он пообедал, собрал коллектив и поделился идеей. Его выслушали молча.
— Приступили! – скомандовал Адольф Иванович.
Поднялся ропот. Столовские возмущались. Хотя не очень громко. Поднялась заведующая.
— Уважаемый Адольф Иванович! Не знаю, как к вам попала такая тарелка. Но посуду с дефектами: выбоинами, трещинами, царапинами мы должны списывать. Видно, кто-то недоглядел. Посудомойка или из тех, кто стоял на раздаче. С этим у нас строго. Инструкция требует того. Иначе нас накажут.
Адольф Иванович знал много. Но не всё. Какие-то мелочи он мог и не знать. И удивился. Слова заведующей были для него как гром среди ясного неба. Он был уверен, что нашел изящное решение. Согнулся, стал совсем маленьким и молча ушел. Заведующей даже стало немножко жалко его. Всё же она была женщина. Он такой одинокий.
Утром, едва рассвело, ректор зашел в свой кабинет, снял плащ и повесил его в шкафу.
Тихий стук. По характеру стука он уже знал, что это Адольф Иванович. Улыбнулся.
— Доброе утро!
— Доброе! Доброе!
— Вот.
Адольф Иванович на цыпочках почему-то подошел к столу ректора и положил на стол лист бумаги. Ректор удивленно вскинул брови.
— Что это значит, уважаемый, Адольф Иванович? Я в полном недоумении. Что такое?
— Я ясно написал. Прошу меня уволить по собственному желанию. Что же тут непонятного?
— Что же случилось?
— Я не справляюсь со своими должностными обязанностями, а поэтому не имею права занимать эту должность.
— Не справляетесь? Ну, знаете, если вы не справляетесь, то тогда я не ректор. Не понятно почему я занимаю этот кабинет. Я понимаю, что вас в любом месте с руками-ногами оторвут. Кто-то сделал вам предложение? Но Адольф Иванович! Для университета ваш уход – это гибель. Хотите стану на колени? Пожалуйста, не уходите! А собственно, что случилось? Я же знаю, что деньги вас не интересуют, вы бессребреник.
Адольф Иванович поведал историю с посудой.
— Господи! Нашли из-за чего!
Ректор улыбнулся и погладил Адольфа Ивановича по рукаву, как мама, когда утешает ребенка.
— Я тоже был когда-то студентом. И тоже жил в общежитии. И тоже промышлял этим делом. Да-да! Адольф Иванович! Грешен! И вот признаюсь вам в этом деле. Можете казнить меня или миловать. Разумеется, это между нами.
— Я вам не верю, — сказал Адольф Иванович. – Вы на себя клевещите, чтобы меня уговорить.
— Но это так. И знаете, я даже сейчас не испытываю стыда. Дело это житейское, обыденное. Не нужно быть настолько строгим. На какие-то вещи надо смотреть сквозь пальцы.
— Житейское? Это воровство. А я не могу пресечь его. Не выгонять же этих студентов из университета? И опять же что-то нужно делать. С воровством нельзя мириться.
— Выгонять? Что вы? Тогда нам некого будет учить.
— Во! А я не знаю, как бороться с этим явлением. Поэтому я не могу занимать эту должность.
— Хм! Давайте сделаем так! Увеличим процент боя посуды.
— А ложки, вилки как? Они под бой никак не попадают. С ними ничего не может поделаться.
— Это всё туда же. Вы поинтересуйтесь у заведующей столовой, сколько ей приходится докупать посуды в месяц. Вот на эту сумму и сделаем бой. И всё в порядке. Проект приказа подготовьте! Всего-то делов!
— Не будет ли это нарушением финансовой дисциплины? А как финансовые органы догадаются?
— Что вы, милейший? Комар носу не подточит. Ложки, вилки, стаканы – это же всё мелочовка. Ну, где-то чуть-чуть убудет. Никто и не заметит. Этому всему цена – пятак в базарный день.
Адольф Иванович стал кусать губы.
— Я не могу поступиться принципами. Сначала мелочовка, потом покрупнее. Вот и преступление.
Примерно такой разговор произошел в кабинете ректора. За точность слов я не ручаюсь. Секретарша могла что-то перепутать, недослышать, добавить свое, досочинить. Сам не присутствовал, не слышал. Но разговор примерно был такой. Довольно долгий. А у ректора каждая минута на вес золота. Но Адольфа Ивановича он не мог отпустить.
Адольф Иванович остался на своем месте, маленький, скромный, замкнутый, о котором много говорили, но ничего конкретного о нем не знали.
10
КАК СОБИРАТЬ ДИАЛЕКТИЗМЫ
Держали вы когда-нибудь в руках «Словарь диалектов Сибири»? большие увесистые тома. Капитальный труд сибирских филологов, над которым они трудились не одно десятилетие. Сохранили великое богатство, которое без их титанического труда было бы потеряно навечно. Увы! Сейчас многих этих слов не услышишь.
То, о чем рассказ пойдет дальше, также имеет отношение к этому словарю. Но особое. Нисколько не дискредитирует его. Почему? Об этом в конце повествования. Но поверьте, что это именно так, чтобы ни у кого не закралось никаких сомнений. Ни малейших!
С утра африканское пекло. Не хотелось даже выбираться наружу. А тем более двигаться, куду-то идти, что-то делать. Но двигаться надо было. Сначала идти в столовую. Она хоть и недалеко – все социально значимые объекты в деревне обычно в центре – но всё-таки. Потом сидеть в душной столовой, где на тебя накатывают жаркие полны из кухни, и стучать ложкой, а потом вилкой по тарелкам. Не то, чтобы совсем не хочется, но на такой жаре!
Опять идти в интернат на Зинину пятиминутку. Зина – староста группы, заместитель нашего шефа.
Еще она комсорг группы. Поэтому в отсутствии руководителя практики она полновластный диктатор. Когда шеф уезжает, она каждый вечер звонит ему и отчитывается. Она распределяет улицы и устанавливает объем. На утренней пятиминутке мы отчитываемся.
Ходили парами. Можно было втроем, если не хватало пары. По одному ходить было нельзя.
— Пожалуйста, ничего не забывайте!
Зина посмотрела на Мишу и Толю. Они были слабым звеном в группе. Еще ни разу не выполнили нормы. Иван Грозный, наверно, так смотрел на бояр-изменников и на тех, кто еще не стал изменником, но, по царскому убеждению, непременно им станет. И они понимали, что скоро их начнут колесовать, четвертовать и варить в медных котлах. Но возразить никто не осмеливался. Судьбу не обманешь.
— Мы чо,- попробовал возмутиться Миша. – Мы, как всегда, крайние. Доверять надо товарищам.
— Некоторые то карандаши забудут, то ручки у них не пишут, то бумагу оставят. И не отказываются, если им предлагают. Записи у вас какие? Ни фамилии, ни возраста, ни социального положения. Некоторые слова сами не можете разобрать. Что с вами еще уроками чистописания заниматься? Контекст где?
— В смысле?
— В смысле примеры употребления. Без контекста карточки не принимаются. У вас больше всех брака. Записывайте точнее. Передавайте фонетические особенности. Миша! Я это говорю для вас. Что опять в окне увидел девчонку и мысленно унесся?
— Чо сразу Миша?
— Ты знаешь, что такое транскрипция? А в прочем, какие ненужные вопросы я задаю.
— Допустим.
— Надо не допускать, а знать точно. Носи с собой транскрипционную таблицу! И заучи ее, как азбуку умножения. Галь! Дай им образец!
Галка порылась в сумочке и протянула им листок. Галя была красивая и самая крупная в группе.
— Ребята! Мы никак не укладываемся в норму. Шеф приедет, что мы ему будем говорить?
— Пистоны нам будет вставлять, — бодро пообещал Миша. – Девушки, не подумайте что-нибудь плохого.
Зина посмотрела на него. С презрением. Миша был настоящим восточным принцем. Но был самый отстающий. Прекрасный лик уживался в нем с восточной ленью.
Миша – турок-месхетинец из Алма-Аты. Что его потянуло в северные края – непонятно.
— Всё! Расходимся по рабочим местам. Вечером собираемся на этом же месте! – строго скомандовала Зина. – Вы у меня на персональном учете. Галя проверит ваши записи.
— Я не понял, кто ты такая, — возмутился Миша. – У нас если что, есть шеф. Вот перед ним и будем отчитываться.
Зина уже шла к выходу. Остановилась в дверях. Кулаки уперла в бока. Веснушки на ее щеках запрыгали.
Толя отвернулся. Он знал, что разъяренная женщина положит любого Геракла на лопатки. Лучше бы Миша помалкивал. Вечно он прет на рожон. Где же восточная осторожность? Миша сощурил свои темные восточные глаза и улыбнулся. Добродушно. Никакого ехидства в его улыбке. Так наверняка улыбался султан, навещая свой гарем, где собирался осчастливить самую юную наложницу. Жемчужину гарема.
Бунт рассосался в самом зародыше. Мишина улыбка превращала разъяренных тигриц в ласковых домашних кошечек, которых хотелось погладить по шерстке и слушать их мурлыканье.
— В общем-то Александр Федорович назначил меня, — как бы извиняясь, пробормотала Зина. – При всех же это было.
Зина посмотрела на подруг, ожидая поддержки. Они отвели взгляды. Кое-кто считал Зину карьеристкой.
— Звезда моих глаз! Солнце моей души!
Миша молитвенно сложил руки и опустился на колени. Теперь он смотрел на Зину снизу-вверх, как на идола.
— Хватит уже придуриваться!
Зина топнула ножкой. Но гнев ее был неискренним. Чтобы понять это, не нужно быть психологом.
Миша и Толя вышли из интерната. Но им показалось, что они вошли в парную. На что уж Миша был южным человеком и то мгновенно поскучнел, ссутулился и еле перебирал ногами.
— Всё-таки правильно русская пословица гласит, хотя и грубовато: «Курица — не птица, а баба – не человек», — сказал Толя. – Разве человек может работать в такой обстановке?
— Ты что имеешь в виду? – спросил Миша. – Вообще-то я не согласен с тем, что женщина – не человек.
— Ну, как мы в такую жару выполним этот идиотский план? Если только ценой своей жизни. Если бы у нас был ковер-самолет, который унес бы нас к теплому морю, где дует легкий бриз, обдувает наши загорелые стройные тела, на которые любуются проходящие мимо девушки. Кстати, Миша! Проходящие мимо девушки все как одна в бикини. Это очень смелые такие купальники, такие узкие голосочки яркой ткани.
Он задел самую главную струну Мишиной души. Миша еле удержался, чтобы не застонать.
— Улица Морская! Согласись, Майкл, какую богатую надо иметь фантазию, чтобы назвать одну из улиц Морской в селе, от которого до ближайшего Карского моря больше тысячи километров. Наверно, председателем сельского совета был моряк Северного флота.
— Или дурак. Мне кажется, больше подходит мой вариант. Ну, назвали бы улицей Ленина и все дела. А если был бы умный, то назвал бы улицу Пыльной или Никудышной.
— Ты пессимист. А почему бы ее не назвать улицей Красивых Парней. Представляешь, девушки всех стран мира стремились бы побывать здесь.
— Заметь, Толя, ни одного человека. Только куры и свиньи бродят.
— Ну, и мы, конечно.
И тут же Толя похолодел. Это в такой-то жаркий день! Он понял, что допустил роковую ошибку, после чего должен был последовать бросок через бедро и удушающий прием. У Миши был юношеский разряд по вольной борьбе. Как-то он в одиночку раскидал пьяных парней, которые пришли в общежитие на девушек. Это задело Мишино достоинство.
— Я это… ты не подумай, чего! Ты же сам сказал, что одни куры на улице и эти самые…
Для Миши даже тарантул более благородное животное, чем свинья.
— Сидеть целый день в душных избах, а вокруг тебя жужжат стаи мух, — стонал Толя. – Ну, за что нам такое? В чем мы провинилась? Миша! Может быть, ты согрешил? Ну, хотя бы мысленно?
— И расспрашивать полуглухих старух, как у них называлось то, как у них называлось это. А они еще и песни запоют. Хорошо бы не поминальные плачи. Я тогда чокнусь. Им только дай повод, не остановишь. Своим-то деревенским они уже надоели. О прадедах начнут, о прапрапрадедах, о том, как раньше было хорошо, как все дружно жили. Воздух был чище и вода слаще, и девки строго блюли себя, и все работали чуть ли не с грудного возраста на сенокосе и на пашне, а не пялились в телевизор.
— И нам еще писать придется, одновременно, вдвоем, — поддакнул Толя. – А потом расшифровывать свои каракули.
— Нет! У меня красивый почерк. Он всем девушкам нравится. В человеке всё должно быть красиво.
— И почему ты должен портить свой красивый почерк? Там же нужно всё быстро: ширк-ширк-ширк. Хорошее испортить ума не надо. А вот потом попробуй восстанови каллиграфию. Скоропись до добра не доведет.
— Вот! Я уже сколько раз говорил! И всё, как о стену горох. Не хотят даже слушать! Живем в двадцатом веке. Дайте нам магнитофон. И все дела! Нажал и пошла работа! Есть же японские магнитофоны. Такие маленькие. Я видел такой в городке.
Толя облизал губы. Язык был шершавый.
— Почему я должен ширк-ширк-ширк? Как в средние века. Никому ничего не надо.
Миша не любил писанины. У него были самые лаконичные конспекты в группе. Как только он брал авторучку, у него начиналась чесаться ладонь. Он приписывал это аллергии. Кумиром его был Чехов.
— Ага! Дадут! Догонят и еще поддадут.
Толя провел по щеке. Оказывается, шершавым был не только язык, но и лицо. Еще не хватало облезть.
— А мы тут парься!
Показалась ребятня. Они были босоногие, худые и загорелые. Говорили громко и разом.
Настоящие дети Африки! Такое впечатление, что здесь вечное лето, как на экваторе. Они не слушали друг друга и махали руками, доказывая что-то свое. И все одновременно. Студиозов даже не удостоили взглядом. Их ничего не интересовало, кроме собственной жизни.
— Васьк! Пойдем купаться! – крикнул один из них.
Они проходили мимо избушки на курьих ножках. То есть только курьих ножек ей и не хватало.
— Пацаны! Счас! Подождите! – завопило со стороны избушки.
Тут же на крыльце, которое вросло в землю, показался Васька. Выглядел он так же, как и остальные пацаны.
Миша с Толей прошли еще несколько шагов, остановились и переглянулись. Их посетила одна и та же мысль.
— Быстренько! Окунёмся только! – сказал Толя.
— Ну, да! – согласился Миша. – И сразу за работу! Норму надо выдать. Мы же стахановцы.
— Никто не сделает за нас нашу работу.
Они повернули и пошли назад на удаляющиеся детские голоса. Угрызения совести имели место быть. Но незначительные. Речная вода, как говорится, была как парное молока. Она ласкала, нежила, обволакивала их тела и не хотела выпускать из своих – пардон! – объятий. По примеру сельских мальчишек несколько раз нырнули с невысокого бережка. Выныривали, отфыркивались и смеялись по-детски. На глубине вода была прохладней. Один раз Толя даже почувствовал ледяной ток подводного ключа. Он подержал в нем ногу. Чудеса! Одна нога в тепле, а другая – на холоде. Ныряли, делали заплывы, лежали на спинах, чуть пошевеливая руками и ногами, чтобы тела оставались на плаву. Река не выпускала. Нужна была сила воли, чтобы покинуть ее. Сыграли в догоняшки. Как маленькие, право. Устали. Отдышавшись, снова принимались забавляться. Времени для них не существовало.
Выбрались на берег. Освежившие. Как будто вернулись в детство на несколько лет назад. Была необычная легкость. Хотелось петь, говорить глупости и смеяться каждый раз. Они лежали на травке, мягкой и затертой подошвами. Подставляли солнцу то спины, то животы, то бока. Не хотелось ни о чем тревожиться, а просто лежать.
Миша придремнул. Потом снова купались. И били по воде так ладонями, что брызги летели фонтаном и обдавали их. Им от этого становились еще веселее. Всё-таки детство – замечательная пора. Счастье! Ну, или почти счастье! Оказывается, для счастья не так уж много и нужно.
Норму, однако, никто не отменял. От этого им стало невесело. Даже очень грустно. Солнце уже забралось на свой трон. А значит, скоро надо идти на обед. Кушать они, конечно, хотят. Но они ведь даже не дошли до своей улицы. Обрекать себя на добровольную каторгу не хотелось. Но и тянуть уже дальше было нельзя. Придется выложиться!
— Выхода нет, — вздохнул Миша.
— Сейчас обсохнем и пойдем, — сказал Толя. – И пойдут они, солнцем палимые, и застонут.
Миша опять вздохнул. Перед его взором стоял алма-атинский проспект с фонтанами и девушками с обнаженными плечами и вызывающее короткими платьями.
— Пацаны! Харэ пластиться! Айда играть!
Раздалось со стороны, где купалась ребятня. Толя поднялся и долго глядел. Улыбнулся.
— Где твой чудо-блокнот? – спросил он Мишу.
Как только не называли Мишину записную книжку, которой он обзавелся сразу, как только поступил в университет. В нее он решил вносить всё самое ценное, что касалось бы его великого научного будущего. Сейчас там было много адресов нужных людей и девушек. Хотя девушки – тоже люди. Зина называла эту книжечку блокнотом тунеядца и развратника. Оставим это на ее совести. В каждом из нас есть и то и другое. Но в разных количествах.
— Пиши «пластиться». Лентяйничать, лежать на солнце. «Пацаны! Харэ пластитья! Пошли купаться». Ваня Петров, 12 лет.
Миша записал своим каллиграфическим почерком, похожим на арабскую вязь. Над некоторыми буквами он рисовал завитки, другие завивал снизу. Буквы как будто парили. Поморщился. Провел пальцем. Лист был влажным и теплым, как будто его подержали над кастрюлей с кипящей водой. Поморщился.
— Нас же Зина убьет. Всего одно слово на двоих. Придется идти в деревню. Пропади она пропадом!
Толя согласился, что их непременно убьют. Они уже обсохли. С тоской поглядели на одежду. Хорошо африканцам. Прикрылся набедренной повязкой и шуруй, куда ноги несут. Они завидовали сельским мальчишкам. Есть всё же счастливые люди. Почему же они так несчастны? В этом была какая-то мировая несправедливость. Обидно!
Миша взял штаны.
— Это… Миш… Запиши еще одно!
Миша насторожился. Положил себе записную книжку на колени. Сидел он по-турецки, поджав ноги под себя.
— Спочетнулся.
— Спочетнулся? – переспросил Миша. – Что за фигня? Хотя красивое слово. Это тоже пацаны?
— Ну… Не важно. Спочетнуться – чуточку запнуться, но не упасть. «Он не заметил сучка и спочетнулся».
— Откуда ты его взял?
— Оттуда? Откуда? От верблюда. Ты записал или нет? Федор Суховеев, 42 года. Ну, и название деревни.
— Так откуда оттуда?
— Из головы.
— Так это же… Ты это чего? Так же нельзя! Мы же наукой занимаемся, а не художественным творчеством.
Тут со стороны ребятни раздался крик:
— Витька! Ну, чо ты?
Они повернули головы. Кричали из реки мальчишке, который был на берегу. На нем были черные сатиновые трусы.
— Я спочетнулся тут.
Мишины красивые восточные глаза стали еще больше. Он с обожанием посмотрел на товарища.
— Ты гений! – воскликнул он.
Если бы сейчас из реки вынырнул кит, они удивились бы меньше. Что это было? Провидение?
— Ты гений! – раз за разом повторял Миша.
Толю всегда смущала лесть, даже когда он считал ее вполне заслуженной. Скромный человек. Улыбнулся солнцу, речке и мягкой травке.
— Работаем, Миша! Отдохнули, пора и честь знать. Когда сделаем дело, тогда и загуляем смело. Отхлянить – выздороветь. «После долгой хвори отхлянил и понемножку стал выходить из дому». Эээ… Милидора Васильева, шестьдесят восемь лет.
— Дальше!
— Ты пишешь быстрей, чем я соображаю. Не гони лошадей! Успеем! Время еще есть.
— Давай искупаемся, чтобы лучше соображалось!
Они с радостным воем нырнули. Миша бухнулся пузом, поднял целый водопад. Вынырнул счастливый. Ребятишки наблюдали за ними. Чего это дядьки разрезвились, как дети. Пьяные, наверно. Взрослые, когда выпьют, ведут себя по-детски.
Искупались. Выбрались на берег. Работа пошла живее. Через час Мишина записная книжка украсились десятком добротных словес. Скажут Зине, что переписали, а черновик выбросили.
— У нас одни глаголы, — привередничал Миша. – Надо бы разбавить другими частями речи.
Толя пообещал исправить.
— Пиши: окочень. Что-либо замерзшее. Ндрав, то есть нрав. Ну, и ндрав у твоей кумы.
— Это что-то не очень, — поморщился Миша. – Неколоритное какое-то.
— Ладно, — усмехнулся Толя. – Что-то ты, Миша, стал привередливым. Сначала за любое слово хватался. Назывщик. О том, кто любит называть других по прозвищу. Сорокин – такой назывщик, спасу нет. Фекла Матросова. Семьдесят семь лет. Нет! Восемьдесят семь.
Из Толи сыпались слова, как горох из дырявого мешка. Миша всё чаще отбраковывал их.
Ему надоело писать. После очередного «диалектизма» пересчитали и удивились: норма перевыполнена.
— Хватит! Полторы нормы.
Когда Зине сдали листки, она удивилась. Пересчитала. Как она была несправедлива к ним!
— Можете, когда захотите! – похвалила. – Знаете. А я верила в вас. Особенно в Толю.
Толя отвел глаза. и вообще весь вечер молчал. Ему было стыдно. Он считал себя обманщиком. Вид у него был какой-то виноватый. Этим вечером он не рассказывал анекдоты.
Как и обещали в начале, на счет словаря. Кто-то может обидеться, посчитав, что эта история дискредитирует словарь, который стал эпохальной вехой – простите за высокопарный стиль! – в развитии русской диалектологии. Ничего подобного! Чтобы попасть на страницы словаря, диалектизм должен быть зафиксирован ни одним человеком, у разных людей и в разных местах. Так что Толины неологизмы туда точно не попали. Можете проверить! Пойдите в ГПНТБ или университетскую библиотеку. А если вы там что-то отыщите, то. Значит, в Толе умер второй Владимир Иванович Даль, потому что он так и не стал диалектологом. Отработал до самой пенсии и на пенсии рядовым сельским учителем.
11
С НОЖОМ НА ПИНОЧЕТА
Одиннадцатого сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот. К власти пришла хунта, возглавляемая генералом Пиночетом. При штурме президентского дворца был убит законно избранный президент Сальвадор Альенде. Было убито тридцать тысяч чилийцев, десятки тысяч оказались в тюрьмах и концлагерях, тысячи покинули Чили. Многие перебрались в Советский Союз и другие социалистические страны. Советские люди воспринимали это как личную трагедию. Это был наглый и жестокий вызов со стороны оплота западного мира Соединенных Штатов.
Среди тех, кто отнесся к этому очень чувствительно был Женя Тилипенко. Второкурсник. Историк. Такой плотный широкоплечий парнишка. Выше среднего роста. Он исправно ходил на лекции. Даже писал конспекты. Особенно по научному коммунизму. Он не слышал преподавателей, потому что его душа была далеко за морями-океанами, рядом с чилийским народом, чилийскими левыми, которых подвергали издевательствам и пыткам опьяневшие от крови гориллы в военных мундирах. Подошла стипендия. На следующий день Женя не появился на занятиях. Всего второй раз он пропускал занятия. Первый раз, потому что заболел и три дня провалялся в постели.
На следующий день он пришел в советский райком комсомола к первому секретарю. Посетителей не было. Секретарша точила пилкой коготочки. Из хищниц, наверно. Тридцатилетний мужчина сидел за столом и читал документы, спущенные из райкома партии, где в каждом абзаце было «повысить», «активизировать», «улучшить». Ему было скучно. Но не читать было нельзя. Могли спросить о содержании какого-нибудь документа.
Женя в левой руке держал портфель из светло-коричневой кожи, правую он протянул через стол к секретарю. Тот удивленно посмотрел на ладонь, чуть привстал и пожал. Всё-таки это было панибратство. Но и не пожать протянутую руку недемократично. Отрываться от масс нельзя. Еще Ильич что-то нехорошее писал про комчванство. Что именно секретарь уже забыл. И даже забыл название статьи. Но слово «комчванство» впечаталось навеки.
Без приглашения Женя сел за стол, поставил рядом с собой портфель, лязгнул замками и положил на стол что-то длинное завернутое в газету. Всё это он проделал молча. Буднично так сказал:
— Вот!
— Что это? – спросил секретарь.
Женя, не торопясь, развернул газету. Портрет Леонида Ильича покорежился, но был узнаваем. Большой кухонный нож, самый большой, какой только можно было найти в хозяйственных магазинах Новосибирска, скромно блестел не побывавшей еще в деле сталью. Не хватало сантиметров десять, от силы двенадцать, чтобы это изделие можно было смело назвать мечом, оружием былинных русских богатырей, которым они сносили головы налево и направо. Кто к нам с мечом, тот от меча и погибнет.
Первый секретарь райкома комсомола, как зачарованный, смотрел на блестящую сталь кухонного меча. Наверно, в детстве он мечтал стать воином, рыцарем. Но потом ему захотелось залезть под стол, якобы в поисках упавшей скрепки, закрыть глаза и притвориться, что его нет в кабинете. Уехал на совещание в горком партии. Но всё же он решил встретить смертельную опасность с открытым забралом, как и подобает вождю советской молодежи. Павка Корчагин никогда бы не полез под стол. Тогда непременно одну из улиц городка назовут его именем. А на здании райкома партии будет мемориальная доска.
Женя пододвинул меч на середину стола и сказал:
— Вот!
— Да! – согласился секретарь.
— Мне надо в Чили. И ваш долг помочь мне в этом. Все взносы у меня уплачены. Десять копеек за каждый месяц.
— В Чили?
— Да. Я убью Пиночета.
Секретарь подумал, что перед ним пациент психиатрической больницы, который тоже был когда-то секретарем в таежном сибирском селе и читал политинформации на полевых станах. Он закусывал самогон мухоморами и впал в депрессию, потому что местная молодежь была совершенно аполитична и не интересовалась решениями партийных съездов. Если он хочет убить Пиночета, то его жизни и комсомольской деятельности ничего сейчас не угрожает. Напротив, он нужен живым этому меченосцу.
— Я бы тоже зарезал Пиночета, — сказал он.
— Да?
Женя был обрадован. Тогда он должен опередить его. Женя ни с кем не собирался делиться славой.
— Вдвоем давай его зарежем? Только – чур! – я первый. Потом можешь делать с ним, что угодно.
Секретарь согласился. Но потом покачал головой.
— Это невозможно.
— Для советского комсомольца нет ничего невозможного, — гордо сказал Женя. – Вспомните наше славное прошлое! Всегда коммунисты и комсомольцы были в первых рядах.
Меч он убрал в ножны, то есть в портфель. К секретарю вернулся прежний комсомольский задор. Он снова чувствовал себя на своем месте, с которого ведет молодежь к новым свершениям.
— Как вы себе это представляете? У нас нет прямых авиарейсов в Латинскую Америку.
— Так через Кубу. Там же Фидель. Он поможет. Вы не бойтесь! У меня всё продумано.
Секретарь представил, как он будет рассказывать об этом в горкоме ребятам на перекуре. Вот будет смеху! После чего будет легче пережить очередной доклад о политике партии. Некоторые даже подумают, что он все это придумал.
— И как вы думаете добраться до Пиночета? Ведь у него же охрана. Вас даже близко не подпустят к его резиденции.
— Барбудос помогут.
— Резонно! – согласился секретарь. – Барбудос должны помочь. На то они и барбудос. Было бы странно, если бы они не помогли. Какие же это тогда барбудос. Никакие не барбудос!
— В их помощи и содействии я не сомневаюсь.
— Я тоже, — согласился секретарь. – Это самые близкие по духу нам люди. Пламенные революционеры.
— Так что? – спросил Женя.
— С кондачка такие вопросы не решаются. Тут всё нужно обдумать. Тщательно! По каждому пункту. Но я думаю, что вы не по адресу.
— В смысле? – удивился Женя. – Я комсомолец. А вы мой комсомольский вожак. Очень даже по адресу.
— У вас же военная операция?
— А какая еще? Медицинская что ли? К чему вы клоните? Никак не могу понять. В чем еще дело?
— Раз военная операция, то, следовательно, вам надо в военкомат. К военным надо. Мы что? Мы райкомовские. Материально можем помочь. Морально поддержать. И всё! А военные операции это не по адресу. Разве это непонятно. Такие вот пирожки!
— Об этом я не подумал, — согласился Женя.
— Военкома зовут Александр Степанович. Я могу позвонить, договориться, чтобы он вас принял. Вы же торопитесь?
— Ну, само собой. Сами понимаете, в таких делах промедление смерти подобно. Месть должна быть быстрой и неотвратимой.
— Вот и ладушки! Вы идите, а я позвоню. Он вас сразу примет без проволочек. Мы хорошо знакомы. Даже живем по соседству. Общаемся. Ну. И по комсомольским делам. А то, знаете, у него на прием всегда очередь. Заранее записываются. Зачем вам в очереди сидеть? Дело же срочное! Государственной важности!
Тень сомнения упала на Женину душу. Чего это секретарь так заботливо ухаживает за ним? Настоящий ухажер просто. А в начале выглядел испуганным. Даже бледным. Знание психологии людей было не самой сильной Жениной стороной. Он не занимался самокопанием. А Достоевского откровенно презирал, хотя и не читал его. Поднялся, протянул через стол руку. Секретарь по-комсомольски крепко пожал. Как боевому товарищу, с которым он всегда готов пойти в разведку.
Женя подхватил портфель и вышел. Он не прошел и ста метров, как возле него резко затормозила черная «Волга».
— Молодой человек!
В приоткрытом окошке озабоченное лицо. Видно, приезжий, решил Женя. Заблудился.
— Вы не подскажите, как проехать на улицу Академика Лаврентьева?
Женя стал объяснять, размахивая руками. Машина пахла кожей и парфюмом. Мужским.
— Едете сейчас прямо. Второй поворот направо.
Он показал.
— Проезжаете прямо. Не помню, какой поворот, и опять направо. И выезжаете на улицу…
Тут же его подхватили под белы ручки и аккуратно усадили на заднее сидение.
Портфель забрали. Он сидел между двумя молодцами в одинаковых серых плащах. Машина резко рванула с места. Его плотно сжимали и держали за руки. Всё произошло слишком стремительно. «Может быть, это агенты Пиночета?» – подумал он. Но как они смогли так быстро вычислить и добраться до него?
Он хотел хлопнуть себя ладонью по лбу. Но не то, что ладонью, даже мизинцем не смог пошевелить, так его плотно зажимали два товарища, удивительно похожие друг на друга. «Это что же получается? Что они проникли даже в райком комсомола? А может, и выше?» Женя решил, что как только он вырвется из цепких лап охранки, так сразу же выведет всех их на чистую воду. Вот только удастся ли ему вырваться? Скорее всего, никого он вывести не сможет. Только бы не пытали. Сразу бы чпокнули. Женя представил мрачный интерьер пиночетовского застенка где-нибудь в окрестном лесочке.
Никто не узнает, где могилка твоя. Скупая слеза побежала по его гладкой юношеской щеке. Сколько было великих планов, какое светлое будущее маячило впереди!
Застенок оказался светлым и просторным. А палач вежливым и убедительным. Говорил он на чистом русском языке. Без всякого акцента. Жене он сразу понравился. Несколько раз по-отечески улыбнулся как самому близкому, почти родному человеку. Назвал его порыв искренним и благородным, достойным всяческого уважения. Сказал, что он прекрасно понимает Женю, что, если бы он был в его возрасте, то, может быть, поступил так же. Юности свойственно такое отношение к жизни. Что касается хунты Пиночета и ее американских хозяев, то время всё расставит по своим местам. Народ не будет мириться с антинародным фашистским режимом. Палачей чилийского народа настигнет справедливый меч возмездия. Он нисколько в этом не сомневается. Но не тот меч, что лежал в Женином портфеле.
Спокойный уравновешенный мужчина. Он ни разу не повысил голос, не сказал ни единого грубого слова.
— Что же… до свидания! Успехов вам на учебном поприще! Не смею больше задерживать.
Женя поднялся и хотел раскланяться. Но решил, что это будет не совсем уместно в таком учреждении.
— Буду стараться! – заверил Женя. – Я никогда не забываю ленинский завет «учиться, учиться и учиться».
— А знаете, что… Стараться, конечно, само собой. А если вы услышите где-нибудь предосудительные разговоры, будьте столь любезны рассказать нам о них.
Женя застыл.
— Ведь разговаривают? В аудитории, в общежитии. Кто-то слушает вражеские голоса. Как нас найти, вы уже знаете. Это ваш гражданский и комсомольский долг. Согласны?
Женя кивнул. Вышел из кабинета и беззвучно закрыл за собой дверь, оббитую черной кожей.
К общежитию он летел, как будто у него за спиной выросли крылья. Большие белые крылья. Как у ангела, который защищает наши души от темных сил и не дает упасть в бездну порока. Глаза его светились, он улыбался. Прохожие удивленно глядели на него. Он никому не скажет, почему он улыбается. Это его тайна. А тайны он умеет хранить.
12
В МОДНЫХ ДЖИНСАХ «ЛЕВИ-СТРАУСС» ПРИХОДИ КО МНЕ НАХ ХАУС
Джинсы — Джинсы брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые изготовлены в 1873 году Леви Страуссом в качестве рабочей одежды для фермеров, так называемых реднековэ
Жилка предпринимателя пробудилась в Кирилле рано. Еще в школьные года. Когда еще и слова «предприниматель» никто не выговаривал. Мысль о реставрации капитализма в стране даже сумасшедшему не могла прийти в голову. «Капитализм» было слово, которым пугали. Но убить тягу к обогащению не мог даже кодекс строителя коммунизма. Как говорится, курица и та гребет под себя. Такова человеческая природа.
«Предприниматель», «бизнес» — это были слова из чуждого для советского человека лексикона. За ними виделось звериное мурло зажравшегося капитализма. Наши люди, если и произносили эти слова, то с гримасой отвращения.
Кирилл был четвероклассником, когда совершил свою первую сделку. Хотя этого слова он даже не знал. В гостях у него был Сережа. И захлебываясь, он рассказал, что в доме у них завелись крысы. И папа даже спит с кочергой. Как и положено хозяину.
Появился кот. Большой, рыжий и пушистый. Он не шел, а шефствовал, презирая всё окружающее. В этой неторопливости чувствовалось достоинство и самоуважение. Он был уверен, что он самое мудрое существо на свете. По крайней мере, по сравнению с людьми. Он не обратил никакого внимания на друзей. Они для него были меньше, чем нули.
Друзья переглянулись. Может быть, их вообще нет. Есть только иллюзия их существования.
Кот подошел к миске. Смотрел на нее долго и внимательно. Так рассматривают шедевры в музеях. Осторожно опустил лапу, поднес ее к морде и облизал кончиком языка. Проделал это трижды. После чего отвернулся и пошел прочь из кухни, никак не выразив своего отношения.
Зад его двигался влево-вправо в такт хвосту. Выходит, что хвост у котов – это самое главное.
Сережа смотрел, как завороженный. Он потерял ощущение реальности. Как будто попал в сказку Гофмана. Это было что-то!
— Ты чего? – спросил Кирилл. – Оглох что ли? Я тебе говорю, а ты молчишь. Серега!
— Кот!
— Ну, да.
— А он у вас ловит мышей? Мне почему-то показалось, что он всех презирает. Даже мышей.
Кирилл утаил правду. Всё-таки какой-никакой, а кот был членом семьи. И себя он считал в семье главным.
— Как ловит! Если бы ты знал!
— А крыс?
— И крыс запросто. Но не ест их. Задавит и бросит. Чисто охотничий инстинкт. Колбаса ему нравится больше.
В общем-то доля правды здесь была. По молодости, когда кот был наивным и непоседливым, он ловил мышей и разгонял крыс. Мог сидеть возле мышиной норки часами. Но молодость проходит. С ней иногда проходит и глупость. Теперь это был мудрый кот. Он потучнел, заматерел и набрался жизненного опыта. Но ни с кем им не делился. Понял, что бессмысленно гоняться за юркими грызунами, когда тебе и так всегда накормят. И дадут больше и вкуснее. Теперь, если он и был страшен мышам, так только усами и глубоким презрением. Он гонялся теперь только за кошками, до которых был большой охотник. И кажется, пользовался взаимностью и популярностью.
— Такого бы нам! – мечтательно произнес Серега. – Мыши пешком по комнатам ходят. Сейчас и крысы завелись. Как только потушат свет, они топают, как слоны, и визжат. Волосы дыбом становятся. Знаешь, как страшно! А если они прыгнут на тебя? Папа хватает кочергу, стучит ею по полу и матерится. На время притихнут. А потом опять.
— Чего же кота не заведете?
— Да как-то не получается. Предлагают только кошечек. Мама их не берет. Говорит, что она котят топить не будет.
— Знаешь…
У Кирилла складывались плохие отношения с Филоном. Для кота он был пустым местом. Филон его не признавал и открыто выражал неприязнь. А чаще предпочитал вообще не замечать. Прозвали его Филоном за то, что вся его жизненные ценности сводились к трем вещам: пожрать, поспать и прогуляться на счет того, кого бы на этот раз. Как известно, простые правила делают нашу жизнь полноценной.
Как-то он уснул на краю кровати, шевельнулся и упал на пол. Разумеется, на лапы.
Долго стоял, не понимая, что с ним случилось.
После этого его стали называть Филоном. Про Мурзиков и Васек даже не вспоминали. Васек и мурзиков полным-полно кругом. А Филон один единственный и неповторимый. На кличку он не откликнулся. Он же не собака.
Так вот. Филон не признавал Кирилла вполне заслуженно, руководствуясь кошачьей мудрости. Уважать можно того, от кого можно что-то поучить. Не всякий человек может дойти до этого.
В картине его мироощущения Кирилл был совершенно ненужным существом. И более того, вредным.
Кирилл не кормил кота, не чистил рыбу и не бросал ее кишки, головы и хвосты в кошачью миску. Зато пробовал дернуть его за хвост. За что тут же получил когтистой лапой. После чего на руке Кирилла остались три кровоточащих линии. И сначала было даже больно.
Обоюдная нелюбовь. А поэтому следующее предложение далось ему легко. Он даже обрадовался, что такое пришло ему в голову.
— Хочешь, купите у нас кота?
— Я даже не знаю, — замялся Сережа. – Как мама. Если разрешит. Вообще это здоровецки, если он крыс ловит.
— Конечно!
— Только мамка на деньги скуповата. Папка у нее на бутылку по полдня выпрашивает. Все ему нервы измотает, пока даст. Он весь испсихуется. Болеет всё-таки.
— Всё-таки женщина, — кивнул Кирилл. – А у тебя что есть? Можно поменяться, если покупать не хотите.
— Не знаю даже.
— Ты как-то говорил, что тебе папка противогаз откуда-то принес. Ну, помнишь, в школе при пацанах? Давай баш на баш! Я тебе кота, а ты мне противогаз. Выгодная для тебя сделка.
— Если папка узнает…
— А ты не говори ему. Он уже забыл про него. Вот ничего и не узнает. Ну, как, Серега? Он, противогаз, ему не нужен. Зато кочергой не придется стучать по полу. Спать будете спокойно. А не визжать от каждого писка. Они, крысы, наглые, еще и под одеяло залезут.
Убийственный аргумент. Тут же Сережа сбегал домой за противогазом. Коробки не было. Получил кота. Филон сначала не мог понять, куда его несут. Озирался по сторонам. Крутил усатой мудрой головой. Потом понял, что его хотят разлучить с родиной. Для него это было неприемлемо. Так Кирилл понял, что патриотизм выдумали не люди.
Филон мяукнул умоляюще. Думал, что этим сможет разжалобить человеческие сердца.
Родители Кирилла пришли с работы. Мама долго не могла понять, кого же в доме не хватает. Вроде бы все на месте, но кого-то всё равно не хватает. Это ее мучило. Уже за ужином спохватилась:
— А где котик?
За стол всегда садились всей семьей. Филон, разумеется, не садился, а присаживался рядом.
Мало ли где? Гуляет на улице. Ночевать домой не пришел. Он тоже имеет право на личную жизнь. Утром мама была расстроена. Мамы очень прозорливы. Они сердцем чувствуют правду. Что-то здесь не так. Кирилл раскололся после допроса. Искренне раскаялся.
Взбучка не состоялась. Мама улыбнулась. Кирилл любил ее улыбку. Она была мягкой.
— Котов не меняют.
Филон вернулся на третий день вечером. Он был грязный и неухоженный. В нескольких местах шерсть висела клочками. Домочадцы радовались. Кот воспринял это совершенно равнодушно, как положенное по его статусу. Долго лакал молоко. На этот раз даже не попробовав его лапой. Мама бросилась к холодильнику. Подогрела еще молока. Налила в миску. Теперь Филон лакал медленно. Оставив немного на донышке, отошел. Некоторое время стоял, прислушивался к организму. Бока его сокращались. Как будто живот сжимали и опускали спазмы. Чихнул, тихо и вежливо. Филон был подозрителен, как английские короли, которых травили все, кому не лень. Пищу он принимал только из маминых рук. Остальных он считал потенциальными отравителями.
Все смотрели на него с умилением, как будто в дом пришел долгожданный Дедушка Мороз.
Сергей в школе сказал Кириллу, что кот убежал. Было обидно. Его для начала даже колбасой покормили. После появления кота в доме крысы совсем ошалели. Они уже разгуливали по квартире среди бела дня. Жрали за обе щеки отраву и резвились еще сильнее. Отец орет, что или сожжет дом, или переселится в психбольницу, если там, конечно, тоже нет этих тварей. Он стал выпивать и задерживаться после работы. Не это было обидно. И кота нет, и противогаза нет. Получается двойная потеря. Одноклассник сильно переживал. Это было самое сильное переживание за всю его жизнь.
— Я-то тут причем? – сказал Кирилл и отвернулся. – Твои проблемы, сам их решай!
Всё стало ясно.
— Отдай противогаз?
— Какой противогаз? – удивился Кирилл. – Ты чего совсем сбрендил? Или прихворнул?
— Ты за кота взял у меня противогаз.
— Нет у меня никакого противогаза, — отмахнулся Кирилл. – Заладил: противогаз, противогаз. У Антона поменял на спиннинг. Хочешь вернуть противогаз, спрашивай у Антона. Тебе же спиннинг не нужен? Я так понимаю? А противогаза у меня нет. Так что!
Дело безнадежное. Сережа махнул рукой. И больше не заикался за противогаз. Тем более, что их дом вскоре сгорел. Пожарные сказали: от неисправной проводки.
В Кирилле проснулся бизнесмен. Следующим его шагом на этом пути была фотография. Он ей увлекся сразу и полностью. Но учебу не забросил. Он всегда понимал, что это главное.
Был летний день. Они гуляли по набережной втроем, то есть всем семейством. К ним привязался фотограф.
— Ах, какая семейная идиллия! Надо непременно сфотографироваться на память. Нельзя упускать таких моментов. Именно из таких кусочков и состоит наша жизнь. Фотография – это двери в вечность.
Мама сразу согласилась. Она была уверена, что выглядит очень красиво. В общем-то, так оно и было.
Фотограф записал адрес. Нет! Нет! Он не обманет. В ближайшие дни они получат фотографии.
Пришли фотографии. Но вот что удивило мальчишку. Цена, которую пришлось маме выложить за них. За три цветных прямоугольника, на которых они улыбаются, как дураки, наивно веря, что вот сейчас к ним вылетит птичка, мама выложила тридцать рублей. Это чуть ли не месячный аванс! Сколько можно было купить всякого! А люди так легко расстаются с деньгами! За эти деньги можно было купить велосипед или подростковое демисезонное пальто, или каждый день обжираться конфетами, или съездить в гости в Барнаул. Тут нажал на кнопочку, поколдовал у себя в темной клетушке – и тридцать рублей, как с куста. Оказывается, деньги можно заработать, не только махая кувалдой. Стал просить фотоаппарат. Мама сопротивлялась недолго. Это же здорово иметь под рукой своего домашнего фотографа. И соседей, и знакомых можно фоткать. Да все же обзавидуются. Всё-таки фотокамера была еще редкостью.
Фотоаппарат «Смена» стоил почти столько же, как три фотографии. Мама считала, что этого вполне достаточно. Она наивно полагала, что фотографировать – это «встаньте, дети! Встаньте в круг!» и только успевать щелкать. И фотки тут же вылетают.
Еще нужны фотопленка, фотобумага, закрепители, проявители, а самое главное – вот эта дорогостоящая бандура – фотоувеличитель. А еще бачки, лотки, фотофонарь. Всё это стоит несколько фотоаппаратов. Как говорили в те времена: «Хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат». Мама совершила ошибку, но отступать было поздно. К тому же это означало ее неправоту. Это было неприемлемо.
Фотографии не получились. Кирилл засветил несколько пленок, испортил не один пакет бумаги. Фотографии получались бледные. Годились на выставку абстракционистов. Показывать их Кирилл стыдился. С месяц ходил на фотокружок в школе.
Кирилл – способный мальчик. Уже скоро он делал качественные фотографии, ничуть не хуже профессионального фотографа.
Сфотографировал соседей. Когда принес фотографии, тетя Валя, восхищенно поцокав языком, спросила:
— Ой, Кирилл! Что я тебе должна за фотографии? Сейчас, подожди, достану кошелек.
— Ничего.
— Ты не ничевокай! Пленку покупал, фотобумагу, всякие реактивы. Они ж тебе не бесплатно достались.
Она открыла кошелек и протянула ему десятку.
— Будешь всех бесплатно щелкать, мамку с папкой разоришь. Они пожалеют, что купили тебе фотоаппарат.
— Это же много!
— Ничего не много. У фотографа в два раза дороже. А твои фотографии ничуть не хуже.
Это было целое богатство. Кирилл хотел похвастаться родителям. Но понял, что этого не стоит делать. Обычно с соседей деньги не брали. Да и могли забрать десяточку себе. Порой в доме бывало безденежно. И тогда обязательно попросят у него. И вопрос: отдадут ли. Скорее нет. Ему же дают на карманные расходы, когда попросит.
Он фотографировал одноклассников, потом ребят из других классов, жителей соседних домов, их гостей. Потом к нему стали приходить незнакомые люди и просили сфотографировать их. Брал он меньше, чем профессиональный фотограф. Качество было не хуже. Людям этого и надо. Известность его росла.
Кирилл возвращался из школы. Его окрикнули:
— Пацан! Постой!
Краснорожий мужик. Кирилл подошел. Мужик взял верхнюю пуговицу его пиджака.
— Здрасьте!
— Угу! – кивнул мужик, продолжая накручивать пуговицу, как будто хотел оторвать ее.
И тут боль, которая делает нас беспомощными и жалкими. Мужик ухватил его за нос. Сжимал все сильнее. Боль разлилась по всему лицу. Потом по голове. Кирилл не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
— Чего же ты делаешь, паршивец? В ментовку тебя сдать? Я, значит, налоги плачу, то сё! Он, тварь, партизанит. Хлеб у меня отнимает. Фотографируй для себя, никто слова не скажет. Альбом собирай! А на продажу нельзя. Это же, тварюга, преступление. Ты хоть это понимаешь? Что ты закон нарушил? Что тебя за это в тюрягу можно? Еще узнаю, кости сначала переломаю, а потом сдам ментам. И пойдешь аля-улю!
Рубашка Кирилла была мокрой от слез. Пытка казалась бесконечной. Прохожие не обращали на них внимания. Кирилл ничего не мог поделать: не толкнуть мужика, не убежать, не позвать на помощь. Он только слабо кивал головой, послушно соглашаясь.
— Ну, смотри!
Его отпустили. Боль еще не покинула его. Какое-то время он стоял на месте, ждал, когда уйдет боль. Лицо горело, а нос, казалось, превратился в горящий уголек. Прикоснись и обожжешь руку. Даже, когда по морде били, было не так больно. А вот это настоящий садизм.
Перед самым домом он унял слезы, чтобы мама не пристала с расспросами. Прошел незаметно, отворачивая голову и сел на краешек дивана, достал книгу. Держал ее перед самым лицом.
С продажей фотографий пришлось завязать. Дядька не шутил. На его руке Кирилл видел наколки. Кирилл был не маленький и понимал, что он занимается тем, чем не должен заниматься советский пионер. Хорошо, что в школе не знали про это. Понятия «незаконное предпринимательство» в те времена еще не было. Зато было другое! Спекуляция. Или незаконное обогащение. Вот это как раз подходило под него. Денег ему хватило, чтобы купить новый велосипед. Еще осталось и на футбольный мячик. Это утешило его. Все затраты на фото принадлежности были окуплены с лихвой.
Фотографировать ему сразу стало неинтересно. Ну, если, когда просили свои, знакомые. Камера пылилась в шкафу, а все прибамбасы вместе с фотоувеличителем переместились в кладовку. Мама сначала сетовала, а потом махнула рукой. Сказала только, что непостоянство – это плохо. Больше по ночам он не колдовал над фотографиями. Хотя, кто знает, мог бы стать профессиональным фотографом. Говорят, хлебная профессия.
Если ты предприниматель, то никуда от этого не денешься. Пусть хоть какие стоят времена во дворе.
На одном курсе с ним учился Женя Лавров, высокий блондин с веселыми глазами, красавчик, которого никто не видел опечаленным. И кажется, он никогда не сердился. На него засматривались девчонки. А когда у него появились американские джинсы «Леви Страусс», они бегали целыми толпами, чтобы посмотреть на него. Но чаще всего Женя приходил на занятия в костюме. Таком сером с просинью.
Джинсы были настоящие! Американские! Класс! Отец Жени был замом по хозчасти в одном из НИИ и порой ездил за границу за оборудованием. Жили они в отдельном коттедже на окраине городка.
Кроме шмуток, отец привозил диски западных групп. Женя порой угощал товарищей жвачкой или сигаретами. Это были или «Кэмел» или «Мальборо». Прежде чем закурить, долго осматривали сигарету, нюхали ее, курили медленно, чтобы почувствовать аромат табака. Чувствовали себя при этом ковбоями. Сравнивали с нашей «Примой» и болгарским «Ту».
Что отличает предпринимателя от обычного человека? Ни в коем случае ни внешность. Обыватель, увидев что-то заманчивое, давится слюной и нюнит «я такое же хочу». Предприниматель же сразу понимает, что это золотая жила и начинает обдумывать, как приступить к ее обработке. С какого боку лучше приступить.
Кирилл стал рассеянным. На лекциях часто только делал вид, что слушает. Мысли его были далеко от древних восточных деспотий и борьбы фракций в социал-демократической партии.
Лавров время от времени появлялся в общежитии. Вообще он был очень демократичным парнем.
ПРЕФЕРАНС — (фр., предпочтение, преимущество). Карточная игра в 32 карты, основанная на преимуществе одной масти перед другой; участвующих обыкновенно трое.
Вечерами «расписывали пульку», то есть играли в преферанс. Так это называлось. Игра считалась интеллектуальной, чуть ли не сродни шахматам. Для посвященных. Кирилл не представлял, что это такое. В его рабочем поселке играли в игры попроще.
Опытные игроки знают друг друга. Есть нечто вроде клуба в городке. Даже проводят соревнования. И не только в городке. Летом где-нибудь в Крыму или на черноморском побережье общесоюзные. Власти косятся подозрительно, но не запрещают. Имеются чемпионы и знаменитости. А то, что менты смотрят сквозь пальцы, так игра же не на деньги. Тут криминала нет. Ничего не пришьешь. Мается интеллигенция дурью.
Кирилл изучил игру. Сначала наблюдал за игроками. Расспрашивал, вникал в тонкости. Не только в пятерке расписывали пульку. Теперь вечерами, порой до глубокой ночи он торчал то в одном, то в другом месте, где собирались преферансисты. Были настоящие профессионалы, которые охотно делились с неофитом секретами.
Когда он появился в компании, куда ходил Лавров, это было неожиданностью, сенсацией местного масштаба, ибо кружок преферансистов давно сложился и пополнения вроде бы не ожидали. Сразу в нем почувствовали опытного игрока.
— А что же ты раньше не играл? – удивились товарищи. – Скрывал такой талант! Нехорошо!
Кирилл улыбался.
Как-то, когда уже хотели расходиться, он предложил сгонять еще партийку, но перед этим развеяться, дать разгрузку голове, сыграть во что-нибудь простенькое, рабоче-крестьянское. В дурака хотя бы. А что? Игра простая и забавная. Напрягаться не нужно. Картишки разбросали. Сыграли пару раз. Посмеялись. Детская игра, но забавная.
— В очко, может быть? – предложил Кирилл.
Поморщились. Игра полууголовная. Недаром и название такое. Очком называют унитаз. Они же не такие. «Интеллигентов из себя корчат», — подумал Кирилл. Со злостью.
— Да раскинем разок, чтобы навыки не терять! – уговаривал Кирилл. – Игра же быстрая. Как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Мало ли что. Ой! Постучать по дереву!
Пожелали типун на язык. И нехотя согласились. Всё какое-то разнообразие. К тому же настоящий игрок должен уметь играть во все игры. Кто играл в «очко», то знает, что игра вроде простенькая. Раскинули карты и набираешь, что-нибудь поближе к очку. Но это далеко не так. А главное: она быстро захватывает, лишает воли к сопротивлению. Как болотная трясина затягивает. И здравомыслящий человек становится чем-то вроде наркомана, теряет над собой контроль, проигрывает все деньги. Квартиру, жен, детей, умоляет, чтобы ему поверили в долг. И непременно верит, что на этот раз он отыграется.
Уже через полчаса наши интеллектуалы забыли, что преферанс существует. Теперь перед их взорами стаяло только очко, такое желанное, которое непременно окажется у него. Играли бы и дальше. Но игра не только азартная, но и денежная. Хотя начали с копеек, мелочи, так, чтобы счет не терять. А вскоре посередине стола была уже горка денежного металла. Все их деньги, пусть и небольшие, перекочевали в карман Кирилла. Играл он легко, без всякого напряжения, постоянно шутил. Рабочая закваска! В рабочих предместьях научат самым необходимымЗадание навыкам, которые пригодятся в суровой реальности. В компании он был самым простонародным.
Собираются по домам. Как бы ненароком Кирилл спросил (он уже держал в руках пальто):
— Ну, что, может быть, раскинем еще на посошок?
— Да я же проигрался, — удивился Женя. – Ни копейки. Ловко ты нас обобрал. Чувствуется умелая рука.
— В долг.
Женя еще в армии усвоил (он служил в армии, хотя его отец был большой шишкой), что играть в долг никогда не стоит. Это может быть чревато печальными последствиям. А тут, как змий-искуситель ужалил. Постоял у порога. И шагнул вперед.
— Где наша не пропадала!
Сели за стол. Кинули на туза, кому банковать. Выпало Жене. От долго тусовал карты. Остальные не рискнули присоединиться. Но никто не ушел. Стали наблюдать за игрой. Везло Жене. Пусть понемножку, но он отыгрывался. Покрыл свой долг. Пошло на прибыль.
Банк растет стремительно. Просто мечта любого финансиста. Женя всё больше смелел. Вскоре на кону была сумма квартальной стипендии. Все позабыли, что уже очень поздно.
Бдительность Лаврова была усыплена. Он уже не сомневался, что у него пошла полоса везения. А раз так, то птицу удачи надо хватать за хвост. Он увеличивал ставки. Он пошел ва-банк, когда на кону образовалась внушительная сумма. Ему, действительно, повезло. У него на руках было двадцать одно очко. Глаза его сверкали. Выложил перед изумленными зрителями карты.
— Очко-с, господа! Как говорится, и ваша не пляшут. И Вася косой не чешись. Вот так надо играть!
Кирилл уныло кивнул. Женя протянул руки, чтобы кучу купюр и монет подтянуть к себе. Хотя, в отличии от других, он никогда не испытывал нужды в деньгах, ему было очень радостно.
— Господин поручик! Не торопитесь! – остановил его Кирилл. – Позвольте и мне вскрыться!
Все ухмыльнулись. Это называется «хорошая мина при плохой игре». Хочет оттянуть минуту краха. Ну-ну! Хотя его можно понять. Это для Лаврова деньги – пыль, мусор. Как в замедленной киносъемке, Кирилл вскрывал карты, раскладывая их веером на столе. Получалось что-то вроде павлиньего хвоста, такое же красивое и яркое.
Король – дама – король – валет – король = король… Это было невероятно! Фантастично!
Кирилл вышел за Женей на крыльцо общежития. Женя достал пачку «Мальборо» и протянул сигаретку Кириллу. Кирилл поднес ее к носу. Втянул запах. Простонал.
— Ты меня обул, — сказал Женя.
Выдохнул упругую струю.
— Хорошие сигареты, — сказал Кирилл. – Болгария отдыхает. Про наши и вспоминать не хочется.
— Империалисты, — сказал Женя.
— А сколько блоков можно провести через границу? Это я так, ради спортивного интереса.
— Не интересовался. Но нам хватает.
— Не пробовал толкнуть кому-нибудь? У нас такие только в «Березке» продаются. Ну, и для членов политбюро.
— Чего? Зачем? К тому же это спекуляция.
— Ну, да! У нас с этим строго. Попадешься, мало не покажется. Хотя все равно спекулируют. Это я так. А знаешь, Жека! Давай я прощу тебе долг! Надеюсь, ты не против?
Женя пристально посмотрел на него.
— Чего это такое благородство?
— Да как хочешь! Деньги-то не малые. А мы же так играли не в серьез. Что мы урки что ли?
— Да ты не ссы! Я рассчитаюсь.
— Да я не сомневаюсь, Женя. Это для других деньги, а для тебя это не деньги. Извини, без обид. Может… это… натурой?
— Чего?
Женины глаза стали злыми. Это было так необычно. Жени и злится. Значит, задело.
— Нет! Ты не то подумал. Мне бы такие джинсы, как у тебя. Америку. Давно мечтаю.
— Знаешь, сколько они стоят?
— Это у нас стоят. Вот эти американские сигареты у них копейки, а у нас почти аванс рабочего. И джинсы у них стоят гроши. Это же рабочая одежда. Сначала фермеры, потом молодежь стала носить.
— Да.
— Ну, ты подумай!
Кирилл пошел в общежитие, не оглядываясь. Вахтерша подозрительно покосилась на него. Женя пошел в семейный коттедж, где были американские сигареты, японский магнитофон, заграничные шмотки, диски, на конвертах которых патлатые юнцы.
Женя перед лекцией поманил его в коридор. Кирилл обрадовался. Понятно, что Лавров согласен.
Вышли на площадку. Поднялись на этаж выше. Там никого не было. Конспирация. Женя щелкнул замками светло-желтого портфеля. Тоже импортный. Наверно, крокодил. Вытащил газетный сверток.
— Кажется, твой размерчик. Ты чуть пониже меня. Будут немного длинноватые, но это мелочи.
Хотелось подпрыгнуть, завопить. Кирилл еле сдержался. Бросил сверток в свой портфель. Портфель он купил перед последним десятым классом, потому что мода на ранцы отошла.
— Всё! Мы в расчете.
— Ага!
Женя протянул ему сигаретку. Щелкнул красной широкой зажигалкой. Бензином не пахло.
— Какой-то есть секрет. Не поделишься?
— Ты чего, Жека? Какие секреты среди своих? Чистое везение! Честное пионерское. Случай!
— Ну-ну! Ладно! Я тебя понимаю. В таких делах нельзя откровенничать, это же не марксистко-ленинская теория.
Кирилл еле дождался субботы. В субботу занятия кончались раньше. Повезло с автобусами.
На выходные он уезжал домой в рабочий поселок. Здесь был судоремонтный завод. Пока держал пакет в портфеле. А портфель целыми днями не выпускал из рук. То и дело открывал его и проверял: на месте ли сверток. Делал он это незаметно. На ночь клал портфель под подушку. Утром болела шея и затылок был каменным. Соседи по комнате удивлялись.
— Да вот что-то шея побаливает, — врал Кирилл, как говорится, не краснея. – Врачи так советуют. Говорят, чтобы повыше была голова, когда спишь. А что еще, кроме портфеля, положишь?
Субботним вечером уже дома Кирилл ушел на кухню. После ужина сюда никто не заходил. Родители в это время ложились спать. Они всегда ложились рано. И рано вставали. Несколько раз он вытер стол. Расстелил джинсы. Долго гладил по ним ладонями.
Потом приступил к делу. Рисовал эскизы, замерял, перепроверял. Снова рисовал, снова проверял. Взял бритвочку, выдохнул, перекрестился и стал осторожно разрезать швы. Стежок за стежком, чтобы не задеть ткань. Работа требовала предельного внимания. Вот вместо соединенных американских штанов перед ним фрагменты, детали их. Его охватил ужас. А если не получится вернуть им первозданную форму? Стал переносить фрагменты на газеты, собрал клочки ниток и завернул их в бумажку. Рассветало, когда он закончил работу. Всё аккуратно свернул, завернул в газеты и убрал в портфель. Портфель отнес в комнату и поставил возле дивана, на котором спал. Спал крепко, но немного.
— Чего подскочил ни свет, ни заря? – удивилась мать. – Лежи! Чего делать-то? Устал же за неделю. Дрыхнешь же до обеда.
— Мам! Ты сегодня занята? Мне нужна твоя помощь. Только это надолго. Но очень нужно.
— Так я постирать хотела.
— Ладно! Стирка потерпит. Мам! Научи меня шить на машинке. Да! На швейной машинке.
— Чего ты, Кирилл? Зачем это тебе? Ты же не девчонка.
— Причем тут девчонка, ни девчонка. Я тебя говоря, это мне очень надо. Честное слово! Сама же говорила, что лучшие портные – мужчины.
— Давай я сама. Что-то зашить или сшить? Чего ты будешь? Я и сама сделаю. Зачем тебе учиться.
— Мам! Сейчас мода такая. Парни покупают рубашки там, брюки и перешивают их по моде. Сейчас же все делают, чтобы уже было, приталенное. А у нас, сама знаешь, что продается. У нас многие так делают. Выглядят классно. Вот и я решил. Что я хуже других? Машинка у нас есть.
— Ну… Не знаю даже. Сама-то я быстрей. А ты пока научишься. Хотя, как знаешь. Мне несложно. Ладно! Доставай машинку!
Можно ли стать за день портным? Можно, если есть сильное непреодолимое желание.
Если есть великая цель.
У Кирилла было то и другое. Даже в избытке. Для такого человека нет ничего невозможного.
Уже к вечеру он выводил ровные стежки, сшивал полукружия и другие фигуры, удивляя маму. Показал кусочки ниток. Мать их долго рассматривала, терла между пальцами, качала головой, бросала на ладонь, дула на них. Потом покачала головой. Удивленно.
— Вижу в первый раз. У нас таких ниток нет.
— Ну, пусть похожие. Только такие же крепкие и такого же цвета. Чтобы нельзя было отличить.
— Поищу.
Перед тем, как лечь спать, Кирилл из черного куска сатина сшил трусы на себя. Показал матери. Она подержала их перед глазами, подергала.
— Да ты уже лучше меня шьешь. Правда, сынок. Какой ты у меня способный. Всё на лету схватываешь. Из тебя получится портной.
И тут же спохватилась.
— Ты мне смотри, Кирилл, только брось университет. Я тебе покажу! Сейчас для тебя это самое главное.
— Чего ты, мама? Я чокнутый что ли? Это я только для себя. Чтобы модно выглядеть.
На следующие выходные он вернул распоротые джинсы в первозданное состояние. Ушло полтора дня кропотливого титанического труда. Тут нельзя было допустить ошибку. Померил. В самый раз. После чего убрал джинсы со всеми выкройками в шкаф. Спал крепко. И чуть не проспал на первый автобус. Собрался впопыхах.
Подошло воскресенье. Кирилл отправился на барахолку, где можно все достать, даже черта лысого. Если вам доводилось видеть барахолку, то вы согласно закиваете головой. Настоящих американских пуговиц и заклепок он, конечно, не нашел. Хотя, может быть, искал плохо. Ведь барахолка – это государство в государстве.
Джинсовая ткань тоже нашлась. Даже был выбор. Хотя и очень ограниченный. Тут промахнуться было никак нельзя. Выбрал местной фабрики. Текстуру мог отличить только опытный глаз. А для тех, кто не имел дело с настоящими джинсами, отличия никакого. Купил красителей, фиксаторов и прочего по мелочи. Оставалось последнее. Но очень важное. Это лейблы, то есть фирменные знаки. К его удивлению, он обнаружил даже разных компаний. Правда, восточно-европейского происхождения.
Дома он принялся за дело. Хоть и говорят, что первый блин комом, Кирилл не мог допустить такого. Блин должен быть единственным и нормальным. Иначе полный крах. Он опять все скрупулезно изучал, замерял, семь раз примеривал, один раз отрезал. Оплошности нельзя было допустить. Джинсы были готовы. Теперь очередь дошла до красителей. Перепробовал самые разные. Нужен был краситель наилучшего качества. Наконец подобрал то, что надо. И цвет один к одному. И при стирке не линяет. Даже не верилось в такое везение. А еще говорят, что у нас нет ничего путевого.
Долго крутил свое произведение, рассматривал сантиметр за сантиметром, дергал и мял. Сравнивал их с настоящими американскими. Конечно, разница была. Но увидеть это мог только специалист.
Напялил джинсы на себя. Долго вертелся перед зеркалом. Определенно, надо быть знатоком, чтобы распознать подделку. Это успокоило и обрадовало Кирилла. Один к одному «
Леви Страус». Все будут восхищаться и охать, и мечтать о таком. Главный вопрос в том, кто же их будущий владелец. Здесь ошибки нельзя допустить. Найти правильного покупателя – это будет посложнее искусства кройки и шиться. Тут, как сапер: можно ошибиться только один раз. И на этом все закончится. Все планы коту под хвост. Кирилл знал, что такое спекуляция, изучил уголовную статью, наслушался рассказов. Поэтому решил действовать крайне осторожно, без спешки.
Самый простой путь – толкнуть барыгам. Но хорошо еще, если полцены получишь. И затем: если барыга залетит, то сразу же сдаст тебя, а сам прикинется мягким и пушистым.
Кирилл решил действовать самостоятельно, без посредников. В своем доме, то есть родном общежитии, этого делать не следует. Все тебя знают, весть тут же разнесётся.
Одну, две пары продашь, а потом будет знать вся общага. И вскоре за тобой придут ребята в погонах, служба которых и опасна, и трудна. Общение с ними никак не входило в его планы.
Пединститут! Вот он Клондайк. На другом конце города, где тебя никто не знает. Для маскировки можно и парик надеть. Народ там попроще. Много деревенских. Американские джинсы они видели только на других. Преобладают девушки, а среди них – сельские, которые мечтают только об одном: не загреметь по распределению в какую-нибудь Сосновку или Ульяновку. Не для того они вырвались из деревни. Вообще свою судьбу они не связывают с воспитанием и обучением будущих строителей коммунизма, хотя в свое время и конспектировали речь Ленина на третьем съезде комсомола. Из этого положения выход один – выскочить замуж за городского. Хорошо еще, чтобы у него была собственная квартира. На последнем курсе они забывали педагогическую науку. Верх брал первичный инстинкт.
ДИСКОТЕКА — [нем. Diskothek < гр. diskos диск + theke хранилище] танцевально развлекательное мероприятие для молодежи с музыкой, записанной на пластинках или магнитной ленте; также само помещение.
Познакомиться можно было где угодно. Город большой и многолюдный. Даже на остановке. Чаще всего это происходило на дискотеках, куда приезжали студенты местных вузов, курсанты военных училищ и школы милиции. На педовские дискотеки слетались как мотыльки на огонь. Знакомства заканчивались разбитием сердец и нежелательной беременностью, от которой приходилось избавляться. Хотя были исключения. Каждая старшекурсница была уверена на все сто, что она будет исключением, и ей непременно предложит руку и сердце благородный рыцарь.
На танцы у Кирилла аллергия. Как-то ему пришлось побывать на школьных танцах. Затащили одноклассники, хотя он сопротивлялся и отнекивался. А потом согласился посмотреть. Грохот, конвульсирующие тела, вопли, сопливая романтика белых танцев отбили у него всякую охоту к этим мероприятиям. Он даже выпускной еле выдержал до конца.
Научить его танцам не смогли. Как будто у него вместо ног были бревна, которые обрушивались на ступни партнерши. Какой интерес держать за талию очередную девушку, мучительно соображая, что ей сказать, ироническое или романтическое. Все галантные кавалеры непременно что-то нашептывают даме в ушко. Увольте! И вот ему опять пришлось окунуться в этот ад. Но отнесся он к этому спокойно.
Девчонки западали на курсантов. Связать свою судьбу с офицером – это стопроцентная гарантия избежать деревенских преподавательских буден с пьяницей-мужем в доме. Их не смущала туманная перспектива мотаться по гарнизонам, жить в общежитиях и видеть своих мужей урывками между учениями и службой. Лишь бы не деревня с ее полудебильной школой, которая из любого сделает психопата.
Средь шумного бала случайно…
— Кирюха!
Он обернулся. Не может быть! Ожидал, что угодно. Но чтобы такое! Чудеса в решете! Женя Рябушкин собственной персоной, бывший одноклассник, природный троечник.
— А ты как сюда попал? Ты же в университете, вроде бы? Или решил к нам? А?
Женя принадлежит к тому редкому типу людей, которых улыбка не украшает, а напротив.
В улыбке было ехидство и какое-то непонятное злорадство: мол, так тебе и надо. Но непонятно, чего надо. И это у него было еще с детских лет. Улыбнется он, и любому хочется плюнуть и отойти.
Приходилось кричать в ухо. Женя еще был к тому же и подслеповат, и глуховат. И переспрашивал каждое слово. С ним в спокойной обстановке говорить было тяжело.
— Ты здесь учишься?
— Да! Учусь! – произнес он с гордостью. – А ты думал: подолбаться пришел. Хотя это само собой.
— И на кого же?
— На учителя начальных классов.
Кирилл чуть не рассмеялся, представив, как Женя заходит в класс в качестве учителя. Любознательные первоклашки еще не знают, что такое школьные будни. На своего долговязого учителя они смотрят с восторгом.
— Я Евгений Алексеевич.
Длинный красный нос вздрагивает при каждом слове. Он живет самостоятельной жизнью.
Фантастика! Хотя Кирилл догадывался, как Женя очутился на факультете начальных классов. И даже представлял это картинно.
Учились здесь в основном девушки. Хорошо, если в группе было двое – трое юношей, которые уже скоро становились своими, как братья, при них не стеснялись поправлять чулки и делиться своими женскими секретами. На начальных классах с основания факультета не было еще ни одного парня. Это был чисто женский факультет. Вот он появляется. В приемной комиссии смотрят на него как на инопланетянина, протирают глаза и не могут поверить. Может быть, он случайно забрел не туда? Аттестат его, где одни тройки, не впечатляет комиссию. Всё перевешивает его мужская природа. Да хоть он бы со справкой пришел об освобождении, его встретили бы с распростертыми объятиями. Впервые здесь увидели мужскую особь. Поглядеть на Женю сбегается весь деканат. Конечно, не Аллен Делон. Но здесь и такому рады. Еще он и нескладный какой-то. Но тоже можно понять. Складные сюда не пойдут сюда.
Его готовы были принять без всяких экзаменов и на руках внести в аудитории под девичьи визги и аплодисменты. И весь пед наслаждался бы этим невиданным зрелищем.
На экзаменах Женя мучительно мэкал между долгими паузами молчания, когда он делал вид, что собирается с мыслями. Приемной комиссии совершенно было неинтересно то, что он скажет. Мог бы просто скромно посидеть и помолчать или рассказать что-нибудь смешное. На него смотрели во все глаза как на чудо. Неужели лед тронулся?
— На свежачок потянуло? – спросил Женя.
Кирилл улыбнулся. Он со школьных лет знал, что переубедить Женю невозможно.
— Ты как султан в гареме.
— Да уж! – согласился Женя. – Есть грешок. Не буду скрывать. А почему бы не пользоваться?
Он хотел выгнуть колесом грудь. Кирилл еле удерживал смех. Колеса не получилось. То, что болталось на ремне у Жени, было достойно таланта Гайдая и Рязанова. Получился бы очень комичный персонаж, который бы затмил славу знаменитой троицы. На ремне двумя мешками висели штаны, которые Женя почему-то считал джинсами.
Назвать портки барабинской швейной фабрики, болтавшиеся на нем, джинсами можно было только, если обладаешь необузданной фантазией. Это было его больным местом.
— Да вот все не могу никак отдать в ателье перешить. Знаешь, завал, ни минуты свободной.
Перешивка обошлась бы ему в пару таких штанов.
— Мда! Это, конечно, не Америка, — сказал Кирилл. – Но ведь главное – это удобство. Эжен! Я могу помочь тебе.
— Чем? – насторожился Женя. – Ты не подумай! Я по всем предметам успеваю. Даже стипендию получал.
— Америкой!
Женя не понял, при чем тут Америка. Где они и где Америка. И как можно помочь Америкой?
А! Была не была!
— Пойдем! — решительно скомандовал Кирилл. – Показывай, где тут у вас туалет. Мужской.
— Да меня вроде не спичит. Ну, пойдем покажу. А может, ты в женский хочешь подглядеть?
В туалете было пусто. Хотя все пропахло табаком. На подоконнике стояла трехлитровая банка для окурков. Кирилл поставил портфель на подоконник, подальше от банки.
Женя подумал: спиртное. Халяву он обожал. Но сам щедростью не отличался. В пионерском лагере под одеялом ел домашние пирожки. Длинный его нос с вечно красным кончиков подрагивал от предвкушения. Но Кирилл не торопился. Пусть помучается. Это было не спиртное, судя по форме газетного свертка. Женя еще больше был заинтригован.
Газеты Женю интересовали только, когда он оказывался в определённом месте. Тогда он рассматривал фотографии членов Политбюро, генерального секретаря и передовиков производства.
Он увидел портрет верного ленинца. И выпрямил спину. Всё-таки он состоял в резерве партии.
— Чо теперь?
Кирилл достал джинсы, поднял их и стряхнул. Ни одной морщинки, как на личике девицы.
Женя попятился и уперся в стенку.
— Это… это что? Ты чего это? – бормотал он. Может быть, решил, что всё происходит во сне?
— Видишь, «Леви Страусс».
— Какой еще страус? Причем тут страус? Ты это… зачем, Кирилл? Ты что это? А! Я не понимаю.
Кирилл потряс у него перед глазами джинсами, чтобы к нему вернулось сознание.
— Настоящие? – спросил Женя.
— А то? Можешь сравнить со своими барабинскими. Хотя не надо сравнивать. Это такой удар по психике.
Сознание возвращалось к Жене.
— Твои что ли?
В его голосе было столько неподдельной зависти. Теперь Кирилл бал для него на недосягаемой высоте.
— Мои!
— Даааа… Слушай, Кирилл, а что же ты их не надел? Тут бы вся дискотека только на тебя бы пялилась.
— Да понимаешь, чуть узковатые. Хотя джинсы и должны быть в обтяжку, но это уж слишком. Снимать замучаешься.
Женя был повыше Кирилл, и ноги у него, как спички. Даже волосы не росли, как у нормальных парней. Но дело не в волосах. Хотя на пляже он стеснялся раздеваться.
— Дай подержать!
Женя взял джинсы за пояс обеими руками. Сначала долго рассматривал перед, затем фасад.
Ему казалось, что он слышит зов прерий.
— Вот такие делишки! – грустно сказал Кирилл. – Сердце кровью обливается. А что поделаешь? Продавать надо. Ты не знаешь, кому здесь можно толкнуть? Кстати, такие джинсы могут носить и девчонки.
Женя никак не мог понять, о чем речь. Разве можно такое продавать? Он бы скорее мать родную продал.
— И за сколько?
— Нууу… можно за стольник.
— Чего же ты даром отдаешь? Ну, почти даром? Ведь они стоят ого-го! Страшно подумать.
— Вот рассуди! Кому я продам их за реальную цену? А если продам, то это уже будет спекуляция. Оно мне надо? Вот то-то же! Представляешь, иногда волком вою. Почему я такой невезучий?
— Ну…
— Это же уголовщина. А за стольник их с руками-ногами любой оторвет. Чисто символическая плата.
— Это… ты серьезно?
— Ну, не обижай меня! Помнишь, как в школьном туалете на выпускном портвешку пили? Еще Сашка облевал весь пол. Как его корежило! Напугал нас даже. А потом смеялись.
Стали вспоминать выпускной. Смеялись.
— Ну, ты знаешь, Жека, как меня найти. Надо бы поконтачить, винишко попить, вспомнить боевую молодость. Кстати, а ты бы взял? Чем отдавать чужому человеку. Лучше уж другу.
— На какие шиши?
— Сто рублей – это чисто по-дружески. Две с половиной стипендии. И ты красавчик. Девчонки пачками падают тебе на грудь.
— Я понял, что ты на выходные дома? Давай я принесу денежку, а ты мне джинсы. Только никому не продавай! Я хотел сказать: не отдавай! Гадом буду, а стольник найду.
Женя завыл как волк. Они пошли в актовый зал, где все продолжало громыхать и дергаться.
За дверью послышались шаги. Кто-то шел к туалету. Кирилл быстро свернул джинсы и сунул их в портфель. Щелкнул замками. Они замолчали. Смотрели на дверь. Зашел парнишка, подозрительно покосился на портфель и подошел к писсуару. Женя презрительно посмотрел на его черные брюки. Сзади выше колен было несколько складок.
Из актового зала неслось «Сатисфэкшн». Женя подвывал как голодный волк на луну.
Женя толкнул первые джинсы. Полученная прибыль составила пятьсот процентов. А ведь Маркс учил, что при ста процентах капиталист готов пойти на любое преступление. Свой труд он не считал. Женя тут же облачился в джинсу. Руки его дрожали. Он потирал свои ляжки и не мог поверить. «Как мало надо человеку для счастья, — грустно подумал Кирилл. – Напялил штаны и на седьмом небе. А еще говорят, что человек – венец природы. А ему достаточно тряпки. Достоевский и Лев Николаевич Толстой даже последнего подонка наделяли более богатой внутренней жизнью».
Женя сгонял за портвешкой. Обмыли сделку. Каждый был уверен, что крупно надул другого. Только что вслух не говорили об этом. Правда, с трудом удерживаясь.
Захмелевший Женя сказал:
— Слушай, Кирюха! А девки сейчас и от джинсовых юбочек тащутся. Такие коротюсенье. По самое «не балуй» только. Полоска джинсы с заклепками и карманчиками.
Это идея! Кирилл как-то сам не допер до этого.
Следующие выходные он посвятил железнодорожному и водному институтам. Тут, правда, преобладала сильная половина. Все девчонки шли нарасхват. Даже некрасивые. Потом опять пед. Подключился к техникумам и профтехучилищам.
Через год у Кирилла было столько денег, что он мог бы себе купить «Запорожец» вместе с гаражом. Получил бы права и катался из поселка до университета на своих колесах. Заказал костюм в ателье. Купил хорошие туфли, рубашки. Ходил в дорогом демисезонном пальто. Тоже «мэйд ин не наше». Делал дорогие стрижки. Похаживал в ресторан «Золотая долина». В столовой брал на десерт непременно парочку пирожных. Портвейна и прочей бормотухи уже не употреблял.
«Запорожец» («Запорожець»), название легкового микролитражного автомобиля, выпускаемого Запорожским автомобильным заводом. Первые модели «З.» (ЗАЗ-965) выпущены в 1960. «З.» — впервые в практике советского автомобилестроения выполнены заднемоторными,…
«Запоржца» он не купил, но ездил на такси. Отстегивал матери. Легкость, с которой к нему текли деньги, и погубила его. Он расслабился и потерял бдительность. Он уже не думал об опасности. По танцулькам ему ездить стало в лень. И он начал толкать джинсы в студгородке. Никуда не надо ехать. Всё рядом, под боком. Ковал деньги, не отходя от кассы. Никого не приходилось уговаривать, хитрить.
Количество молодежи, внезапно переодевшееся в джинсы и джинсовые юбочки, привлекло внимание. В магазинах такой продукции не было. А на барахолке не каждый мог купить. Для специалистов несложно было установить, что это всё самопал. Значит, где-то под носом есть подпольная швейная мастерская. А дальше дело техники. Вскоре ниточка протянулась к Кириллу. Стали присматриваться к его личности.
Он сидел на кровати в общежитии и протирал глаза. когда зашли двое в костюмах, показали корочки и попросили пройти вместе с ними. Он даже не успел напугаться. Как будто ждал этих ребят. И приход их не был для него ничем удивительным. Он забыл правило картежных игроков: «Остановись, когда тебе крупно подфартило! Дважды снаряд в одну воронку не падает». Он уже не мог остановиться. Правило он нарушил. Выходит, что сам виноват. И свой провал он встретил спокойно.
Возле милицейского «уазика» на него надели наручники. Он удивился, потому что бежать не собирался. Засунули в машину. Кирилл посмотрел на желтые окна просыпающейся общаги. Мысленно попрощался с ней, со студенческой жизнью, с будущим красным дипломом. Увидит ли он когда-нибудь снова эти окна?
«Уазик» вздрогнул, чихнул и дернулся с места. Неторопливо выехал на главную дорогу.
13
СОНЬКА ШАРАПОВ
«Шарап» по-татарски «разбойник». В Сибири деревушек и крупных сел с названием Шарапово вагон и маленькая тележка. Как будто половина Сибири разбойничала.
ШАРАП (ШАРАП, шерап, условный грабеж; взять на-шарап, поднять на шарап, на поток, поточить (стар. новг.), разграбить, расхватать по рукам, что кому попадется. Шарап, ребята! призыв на расхват, на расхищенье.
Некоторые считают, что в Сибири жили одни татары. Все они ходили с длинными ножами и увесистыми дубинами, которые при встрече с кем-нибудь тут же пускали в дело. Выходили на московский тракт и, заломив шапку, ждали очередной этап. Резали купцов и купчих, а их дочерей вместе с сундуками, набитыми ювелиркой, забирали себе. Поэтому татарские дома ломились от драгоценностей. Это не так. Не совсем так. Далеко не так. Хотя и случалось. Довольно часто.
Только в последнее время из лексикона сибиряков исчезло красивое слово «шарпаить» — разбойничать, грабить. Но оно закрепилось в названии сел и прочих населенных пунктов.
Это так. Предисловие для разгону, чтобы дальше не было скучно и грустно. И некому руку подать.
У него была сибирская фамилия Шарапов. В их деревне, откуда родом его предки, все были Шараповы. Имя невыразительное – Константин, а не Челубей, что больше соответствовало бы его облику. Он был высок, грузен. Этакий тяжеловес. Кровать в общежитии под ним сразу сломалась. По имени, то есть Костя, его редко кто называл. И сам он, когда знакомился, назывался только фамилией. Если просили имя, то тихо бормотал «Костик». Почему-то Челубеем тоже не называли. Наверно, боялись обидеть древнетатарского героя, который, в прочем, не выиграл поединка. Но и не проиграл.
Другие, когда обижаются, лезут бить морду. Или свою подставляют под кулаки. Он не делал ни того, ни другого, потому что не обижался. Видно, в мозгу у него отсутствовал отдел обидчивости. Есть такие персонажи, которым сколько угодно наговори обидных слов, они будут только улыбаться и нежно смотреть на нас. Некоторые даже лезут целоваться. Не знаю, мне такие не попадались. Но раз говорят, значит, есть. Всякое желание обижать такого человека начисто пропадает. И вы понимаете, что не стоите мизинца его правой или левой ноги. И уже сами готовы расцеловать его.
Имя к нему прилипло неслучайно. Он был соней, натуральным, хроническим, неизлечимым. Феноменальным. Видеть его бодрым и деятельным довелось немногим. Поэтому он остался в памяти товарищей, знакомых и гостей, как крепко спящий человек.
Когда все поднимались, умывались, одевались, собирали тетрадки в портфели, смеялись, шли на первый этаж в буфет, чтобы выпить бутылку лимонада «Буратино» с булочкой, он еще спал. Лицо у него было, как у каменного Будды, полностью отрешенного от земной суеты.
Шли в учебный корпус, сдавали пальтишки в гардероб, поднимались на второй этаж, смотрели расписание, встречались, жали руки, смеялись, курили, делились последними новостями. Он досматривал седьмые или какие там по счету сны. И как говорится, в ус не дул. Звонок. Заходили в аудиторию, появлялся преподаватель, здоровался, ставил на стол портфель, долго рыскал в нем в поисках тетради с нужными конспектами, садился, открывал тетрадь и громко называл тему, которую нужно было записать. В это время открывалась дверь и на пороге возникала грузная фигура.
Его можно было принять за снежного человека или Гулливера. Смотря какая у кого фантазия. Формально он опоздал, но фактически явился вовремя, потому что лекция еще не началась. До этого была только прелюдия, разминка перед главными играми. Шарапов шел, и доски жалобно стонали под его железной пятой. Местами прогибались.
Проходил на последний или предпоследний ряд, если последний был занят. Хотя, если бы он пожелал, то любой ему бы уступил место. Стул держался изо всех сил, чтобы не развалиться. Стул был жалко, хотя он был не мягким, местами поцарапанным. Тетрадь! Ручка. Опирался на ладонь левой руки. Правой ладонью прикрывал глаза. получалось что-то вроде роденовского мыслителя. Только грандиозней. Засыпал. Да-да! Самым натуральным образом. Причем мгновенно, без переходного периода. Без всяких снотворных, пересчета овечек и «Спокойной ночи, малыши!»
В детстве родителям, конечно, было скучно с ним. Он не доставлял никаких огорчений.
Будили, когда нужно было перейти в другую аудиторию. Соня переходил на новое место и погружался в сон. Тетрадь его была раскрыта. Левая рука подпирала лоб. Правая рука с авторучкой постоянно двигалась. И преподаватель не мог не заметить усердного студента, который конспектирует всё, что бы он ни говорил, слово в слово, не отвлекаясь ни на что, ни с кем не заговаривая, не поглядывая с тоской в окно. Причем преподаватель был убежден, что он не механически переносит его слова на бумагу, а делает это осознанно, пытаясь осмыслить то, что он слышал.
Он не только на лекциях спал. Несколько раз засыпал в столовой, плотно пообедав. Закон Архимеда в обывательском толковании он соблюдал свято. На то он и закон. Противиться ему может только совершенно глупый человек. Его обнаруживали столовские работники, когда начинали уборку в зале, долго будили, а потом выпроваживали. Соня твердой поступью направлялся в общежитии, чтобы там продолжить сон. Дремал до самого ужина. Тапочки его упирались в стенной шкаф.
Вы должно быть подумали, что по ночам он писал научный труд или художественный шедевр, который должен был прославить его на века. Для чего-то же он копил весь день силы. Или, быть может, вы решили, что с наступлением темноты в нем пробуждалось восточное сладострастие и он рыскал в окрестностях в поисках очередной жертвы, которой он сначала рассказывал сказки Шехерезады, а потом удовлетворял свою неуемную страсть? Может быть… Но хватит! Нечего перебирать. Он спал. Крепко спал. И кажется, без всяких сновидений. Какие могут быть сновидения у каменного истукана? Он не бормотал, не вскрикивал, не переворачивался с бока на бок, не подскакивал и не гулял по общежитию или по его крыше.
Он спал красиво. На спине, вытянув руки по швам. Или на боку, подложив ладони под голову. Товарищи по комнате были довольны. Еще бы! У тебя всегда перед глазами монументальная статуя. Посапывал. Иногда мог чего-нибудь пожевать губами. Не торопясь, с достоинством, как будто он на приеме в иностранном посольстве. Ему снился какой-нибудь ляля-кебаб, перед ним ни одни восточный человек устоять не может.
Что было его огромным достоинством – никогда не храпел. Даже не похрапывал. Если бы он еще и храпел – это при его-то комплекции – то это было бы катастрофой для близлежащих комнат, а, может быть, и всего этажа. Сколько бы хронически не высыпались!
На гулянках, когда студенты через четверть часа начинают сбрасываться и выкидывать пальцы, кому бежать, он равнодушно дремал, примостившись где-нибудь в углу. Засыпал во время дружеской беседы, сказав несколько значимых или незначимых фраз. А чаще всего молчал, свято соблюдая принцип, что молчание – золото. Спал в общественном транспорте, на торжественных мероприятиях, проспал свое посвящение в студенты. И шутливый диплом за него получили товарищи. Передали на следующий день.
Рассказывали, что однажды он пришел на свидание и подарил своей возлюбленной охапку цветов, нарванных им с десятка клумб. После чего припал на колено и предложил ей руку и сердце. Девушка могла спокойно сидеть на его ладони, как в кресле. В этой позе с левой рукой, прижатой к сердцу, и протянутой правой рукой, он заснул. Она решила, что пауза затянулась, несколько раз дала согласие, а потом ушла.
Многие считали, что это вранье натуральное. Согласитесь! Хотя, кто его Шарапова знает. Разбойники всегда непредсказуемы, даже если они ведут себя как кроткие овечки.
Если на счет свидания, можно сомневаться, потому что свидетелей не было, то зато другое несомненно. Многие видели его, прислонившегося к дверному косяку. Шарапов уходил, нагостившись. Одна нога у него была обута. Второй ботинок он держал в руке, приподняв босую ногу, и спал. Это точно видели.
Кто-то даже подсчитал, сколько Сонька бодрствует. Всё-таки студенты – это будущие исследователи.
Прием пищи, переходы туда-сюда, отправление естественных нужд (хотя тут тоже можно поспать) и прочее… Набиралось три часа с копейками. Даже старые коты спят меньше. Многие в эти расчеты не поверили. Сказали новоявленному счетоводу, что он сильно преувеличивает. И опять же, что он стоял с хронометром возле Сони? Время бодрствования он преувеличил и вообще считать не умеет, поскольку гуманитарий. Гуманитарии не обижаются, когда их обличают в незнании таблицы умножения. Это не самое главное для личного счастья и профессиональной карьеры.
Все были уверены, что Сонька дотянет до первой сессии, а потом сделает ручкой. Растворится в неизвестности. Хотя почему в неизвестности? Будет досыпать в родном колхозе. Хотя это ему сделают ручкой.
— До свидания, Сонечка Шарапов! Отправляйся в свой улус! В юртах особенно хорошо спится. Сны на свежем воздухе красивее.
Существовала такая практика, что на первый курс в каждую группу брали кандидатов. Полгода они существовали на птичьих правах. Стипендии, естественно, не получали. Они не считались полноценными студентами и студенческого билета им не полагалось. Места в общежитии им тоже не давали. Обычно сидели они на «камчатке». После первого семестра кого-то отчисляли из-за прогулов, неблаговидного поступка, не сдал зачеты, экзамены. И наступал звездный час для кандидатов. Место нерадивого студента занимал кандидат и становился полноценным студентом. Полгода унижений и ощущения собственной неполноценности заканчивались. Многие кандидаты со злорадством косились на Соню и видели себя с января на его месте. Уж этот-то явно пойдет на отсев. Он же на экзаменах ни бэ ни мэ ни кукареку.
Вот подошла сессия. А надо знать, что в те благословенные времена никаких новогодних каникул не было. Тридцать первого был сокращенный рабочий день. Первого января – законный выходной. То есть первого опохмелялись, а второго уже выходили на работу. Если, конечно, второе января не выпадало на воскресенье. Но это же такая редкость.
В каком состоянии были работники и какую можно было ожидать от них работу, партию и правительство совершенно не интересовало. Но у начальства тоже болела голова и во рту была сухость. А когда начальство болеет, оно смотрит сквозь пальцы на страдающих подчиненных.
Думали они об одном. Разумеется, не о работе. А когда все думают в одном направлении, это обязательно случится. Здесь всё понятно. Поэтому могли и следующий рабочий день прихватить для продолжения праздничного настроения. Работа – не волк. Куда она могла убежать от них? Организм же не обманешь. Если он не предназначен для трудового героизма.
Со второго января начинались экзамены. Это какой же ненавистник человечества мог придумать такое? Как будто студенты и преподаватели нелюди и не рады Деду Морозу. Экзаменатор еще мог прикрыть ладошкой глаза и сидеть кемарить с умным видом, убаюканный сладкоголосыми сиренами в облике помятых юношей и девушек. А студенту каково с осознанием, что на кону твоя стипендия и даже безмятежные студенческие годы? Или на Новый год он должен зашивать рот суровой ниткой?
Из песни слов не выкинешь. Поэтому первый экзамен, даже будущие краснодипломники, сдавали ниже своих возможностей. Еще и радовались, что вообще сдали. Кроме тех, кто на Новый год прятался в чулане с конспектами и учебниками и при свете лучины разбирал свои каракули, делал выписки из книг под праздничный рев из-за стены.
Экзамен был по диалектическому материализму. Читал курс доктор философских наук Виктор Иванович Хохлов.
— А что это у нас задняя парта спит? – спросил доктор философских наук Хохлов Виктор Иванович. – Смотрим новогодние сны? Увлекательное занятие. Только вы перепутали место.
Его боялись. Получить у него что-то больше тройки было сенсацией. Поэтому в тех группах, где он вел философию никто повышенную стипендию не получал. Ну, может быть, два – три человека.
Человек-гора зашевелился.
— Не сплю, а думаю.
— Думать надо было раньше, когда вы сидели за новогодним столом и водили хороводы вокруг елочки. Сейчас мы сдаем экзамен. А ваша очередь давно подошла. Или вы этого не заметили? Что, надо сказать, не делает вам чести. Невнимательным нечего делать в науке.
Заглянул в зачетку.
— Господин Шарапов! Уже давным-давно вас ожидает лобное место. Увы! Дураков больше, чем людей.
Соня двинулся вперед. Хохлову захотелось спрятаться. Он понял, что перегнул с дураками. Но он был человек с крепкими нервами и никак не проявил своих чувств.
Соня опустился.
Хохлов славился наблюдательностью
— А где ваши листочки? – спросил Хохлов.
— А зачем они? – спросил Соня.
— Ну…
— Мне же экзамен сдавать, а не писать роман. К тому же экзамен устный. В прочем…
— Молодой человек!
Хохлов заглянул в зачетку. Разумеется, она была стерильно чистой, поскольку это был первый экзамен.
— Шарапов! Вы проспали все мои лекции. Вы думали, что я слепой и не вижу этого? Я всё вижу. Уже по первой лекции могу судить, что собой представляет тот или иной студент.
Хохлов пожевал губы и продолжил:
— Конспекты вы не писали. А между прочим, многое в моих лекциях – это результат моих исследований. И теперь собираетесь сдать экзамен?
Он взял ручку, пододвинул к себе зачетку. Внимательно прочитал. Ухмыльнулся. Постучал костяшками пальцев по столу.
— Пишу вам «неуд».
— Постойте! Но я же еще не отвечал. Как же так: не выслушав ответа, вы уже оцениваете его?
— Вы собираетесь отвечать?
— Конечно.
— Любопытно. Вижу наглости вам не занимать, молодой человек. Только знаете, я уже всяких перевидал.
— Тогда зачем я, по-вашему, пришел на экзамен? Просто посидеть и уйти с «неудом» в зачетке?
Хохлов замер. С таким он сталкивался впервые. Студенты, если не списывали, то всё равно подглядывали в листочки.
Быстро потер большим пальцем об указательный и средний. Нет-нет! В те времена в вузах не было взяточничества.
— Любопытно! Как же вы собрались сдавать экзамен безо всяких записей? Хоть бы шпаргалку приготовили.
— Зачем?
— Как зачем? Поспать. Как вы делали на всех моих лекциях. Что философия оказалась вам не по зубам?
— Могу я отвечать?
Хохлов хмыкнул.
— Первый вопрос. «Философия Гегеля как новый этап развития диалектики. Основные труды, их идеи».
ГЕГЕЛЬ
(Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770 — 1831) — немецкий философ, создатель философской системы, являющейся не только завершающим звеном в развитии немецкой трансцендентально-критической философии, но и одной из последних всеобъемлющих систем классического новоевропейского рационализма.
Чем больше говорил Соня без всяких этих «э» и «значит», тем более живым становилось лицо доктора философских наук Виктора Ивановича Хохлова. Уже никакой ехидной ухмылочки.
Он не верил своим глазам, точнее ушам. Не может быть такого! Этот увалень, засоня отвечал на уровне аспиранта. Когда Соня дошел до «Феноменологии духа», профессор приподнялся и перегнулся через стол, надеясь увидеть что-нибудь в руках студента. У Сони ничего не было. Да и смотрел он прямо в глаза своими черными тюркскими глазками. Потом он перешел к Канту, Фейербаху, учению, которое стало оружием в руках пролетариата.
Хоть Хохлов и был доктором философских наук, но всё же оставался человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Так же, как и вождю мирового пролетариата. Хотя сравнение, может быть, и хромает.
А еще он был убежденным материалистом. Забеспокоился, заерзал. Стал оглядываться по сторонам.
В конце концов не выдержал.
— Постойте! – воскликнул он. – Постойте! Постойте! Да послушайте же меня! Я что хочу…Ведь вы почти дословно повторяете мои лекции. А еще рассказываете о том, что я вам не рассказывал.
Хохлов развел руками.
— Откуда вам знаком труд Шопенгауэра? Я только упоминал его имя. Но не характеризовал идей. Я же только мельком прошелся. К сожалению, изучение его трудов не входит в программу.
ШОПЕНГАУЭР
(Schopenhauer) Артур (1788— 1860) — немецкий философ, основоположник системы, проникнутой волюнтаризмом, пессимизмом и иррационализмом.
Хохлов пристально заглядывал ему в глаза.
— Ведь вы же спали на моих лекциях. Только что не храпели. А после лекции вас будили товарищи.
— Сознание не спит.
— И что?
— Признаюсь. Я не записывал ваших лекций. И считаю это бесполезным занятием. Даже вредным. Всегда так делаю. А потом вечером в общежитии записываю конспект по памяти.
— Не верю. У вас же не только философию. Но и другие курсы. И всё вы записываете по памяти? Покажите!
— Можно выйти за тетрадкой? Я думаю, что в коридоре уже никого нет. Я же последний?
Потом Хохлов листал общую тетрадь, в которой ровным почерком были записаны все его лекции, с подчеркиванием важного, sic’ами, отсылками, указанием на библиографию. Без вводных слов, лирических отступлений, слов-паразитов. После лекций конспект Шопенгауэра и ранней философской статьи Маркса, чего он не задавал делать. Хоть сейчас публикуй. А ведь он до сих пор не издал свой курс лекций. Молча пододвинул зачетку и вывел «отл.» Он хотел поставить три восклицательных знака, как-то отметить, что это не просто «отл.», а «сверхотл.». Баба Наташа уВовремя остановился. Это же зачетка, официальный документ, а не девчачий альбом, где допустимо выражать свои эмоции. Даже нужно это делать. Иначе неинтересно.
Экзамен (от ехаmen, вм. exagimen от exigo; латинское слово, обозначавшее прежде всего язычок, стрелку у весов, затем, в переносном значении, оценку, испытание) — испытание познаний кого-либо в каком-нибудь предмете.
— Идите!
Он захлопнул зачетку и протянул ее Шарапову. Шарапов посмотрел на синие корочки, но не взял их.
— У меня еще второй вопрос о…
— Не надо! Идите! – ласково проворковал Хохлов. – Мне достаточно услышать одну фразу, чтобы понять, кто передо мной.
Университет Шарапов закончил с красным дипломом. Когда он его получал, глаза его были прикрыты.
Следы его теряются. Хотя доктор философских наук Хохлов, может быть, что-то и знает о нем. Просто обязан знать. Может быть, если у Шараповва есть научные труды, он их перечитывает. Сам Хохлов об этом никому не рассказывал. Человек он сдержанный.
14
ИСЧАДИЯ АДА НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Был понедельник. Толя поднялся ни свет ни заря. В первый автобус, набитый рабочими, он залезть не смог. Всё-таки у рабочего люда локти покрепче. Особенно в начале трудовой недели. Залез во второй. На Башне опять неудача. Уж если пойдет, то полосой. Опять не удалось втиснуться в автобус. Потерял время, ожидая следующего. Всё же забрался. Но график был уже нарушен. Даже если сядет сразу на третий, всё равно опаздывает. В городок автобус пришлось ждать довольно долго. Тоже битком. Но тут уж Толя решил не сдаваться. И превратился в сгусток энергии.
Первая пара по истории партии. Ведет курс сам декан факультета. Опозданий он не любил.
Тарантул [ит. tarantola] — название нескольких видов ядовитых пауков, укусы которых болезненны, но для человека не опасны.
Всех нерадивых запоминает. Потом на экзамене гоняет по полной программе. Выходят от него потные.
Толя бегом бросился через сосновый лесок. Хотя мог в любой момент запнуться о какой-нибудь наземный корень. Сдал пальто в гардероб, перевел дыхание. Можно подниматься. Прыжками через левое крыло на второй этаж. Там меньше вероятности встретить кого-нибудь из преподавателей. Перед лестничной площадкой его свободный полет оборвался. Не по его вине. Он бы мог лететь под небеса. То, что он увидел на этой самой площадке, достойно кисти Босха. Художнику это понравилось бы. И он непременно использовал для очередной своей картины. В народе эту пакость называют еще мизгирями. В деревне у бабушки, куда на лето отвозили маленького Толю, был мужик по прозвищу Мизгирь.
На Толю смотрели две пары круглых, черных и люто ненавидящих человечество глаз. Глаза. смотрели в упор, как на приговоренного к смертной казни. Всё, милок! Отпрыгался! Ярко-желтая густая шерсть ходила волнами, как хлебная нива в конце лета. Может быть, это у них сигнал к началу боевых действий, к которым Толя был совершенно не готов. Лапы были крепко расставлены, как Триумфальная арка в Париже. Вот сейчас они подогнутся в суставах для стремительного броска вперед, после которого шансов у жертвы не остается. Выход один – мучительная смерть, правда, моментальная.
Два исчадия ада были размером с Толины кулаки. Но против них его кулаки были бессильны. Это тебе не в уличной драке морды бить или свою подставлять под кулаки.
Это были тарантулы. Толя вспомнил, что когда-то видел их изображения на картинке. И страшную подпись, что укус их смертелен. Поэтому жители степей и пустынь боятся их не меньше, чем ядовитых змей.
Теперь увиденная в детстве картинка явно возникла перед ним, ожила, шевелится в нескольких шагах от него.
Вспомнил рассказы о том, как они кусали геологов и красноармейцев, которые боролись с басмачами. Басмачей они почему-то не трогали. Наверно, чувствовали в них родственные души. А вот наших людей отправляли прямым ходом на тот свет. Может быть, басмачи их специально использовали как бактериологическое оружие против борцов за социализм? Прыжок – укус – недолгие конвульсии – труп. И уже зырят, кого еще пустить в расход. На ком сэкономить.
Такая перспектива Толю не устраивала. Он попятился задом вниз, не сводя глаз с тарантулов. Они внимательно следили за ним. Что-то прикидывали. Начинать ли им атаку? Пока не двигались. Повернуться к ним спиной не решался. И тихонько по ступенькам вниз. Когда оставалось несколько ступенек до первого этажа, один из них пошевелился, несколько передвинулся вперед. Тут же к нему присоединился второй. Поняли, что добыча уходит. Он тоже не стал испытывать судьбу. Резко развернулся и бегом вниз.
Тарантулы смотрели теперь на него свысока. Он побежал.
— Там тарантулы! – прокричал он гардеробщице. – Целых два! Вот такие! Сидят гады!
Она оторвала глаза от книжки, пристально посмотрела на него, но ничего не сказала. В ее взгляде он мог бы прочитать неприязнь, насмешку. Но ему было не до этого. Подумала: «Вот еще одна напрасно погубленная молодость! Какая пошла молодежь! Всё вино! Оно проклятое! И кто его выдумал на наши головы! А сейчас вообще со школы уже пьют»
Когда Толя опаздывал, он тихонько приоткрывал дверь и замирал на пороге, шепнув тихо «здрасьть» и стоял, ожидая государевой милости – разрешения пройти не место. Были преподаватели, которые терпеть не могли опозданий. Сейчас как раз был такой случай.
Но на этот раз он забыл про этикет. Не приоткрыл двери, а открыл и ворвался, хлопнув ими.
Поздоровался. Но громко. Даже Шарапов вздрогнул на последней парте и зашевелил губами.
— Там тарантулы! – выдохнул Толя. – Вот такие! Я убежал от них. Они за мной уже хотели…
Все смотрели на него.
— На лестничной площадке! Вот такие! И глазами так и лупают. Шерсть шевелится. Жуть!
— Молодой человек! Вы нам мешаете!
Декан смотрел строго. После такого его взгляда обычно студенты превращались в соляные столбы.
На лекции освещался вопрос о первой русской революции, которая не имела никакого отношения к тарантулам. Если, конечно, не подразумевать под ними царских сатрапов. Студенты ухмылялись.
— Дам хороший совет. Надо всегда закусывать, когда выпиваете, — сказал декан. – Тогда вы не увидите ни тарантулов, ни беленьких пушистых зайчиков, которые водят вокруг вас хороводы. Но вернемся к нашим овцам.
Наверно, под «овцами» он имел в виду пламенных революционеров. Сравнение очень неудачное.
Толя не понимал, ка они могут спокойно слушать про декабрьское вооруженное восстание, когда по универу расползлись тарантулы, несущие смерть и тоску живым существам? Профессор, кандидат исторических наук, декан гуманитарного факультета никак не может понять, какая смертельная опасность нависла над его подопечными? Расхаживает туда-сюда и монотонным голосом бубонит, как будто ничего не происходит.
Толе представилось, как двери распахнулись и скопища тарантулов вваливаются в аудиторию. Они набрасываются на несчастных студентов. Кто-то застыл в ступоре, кто-то пытается распахнуть окно, чтобы выпрыгнуть наружу. Уж лучше переломать руки-ноги.
Нет! Никому не уйти! Никто не дождется пощады от беспощадных монстров, которым чуждо всякое сострадание. Что, уважаемый Иван Афанасьевич, не верите? Полюбуйтесь на поле битвы, достойное кисти художника-баталиста Верещагина! Кругом хладные трупы!
Иван Афанасьевич уже не полюбуется. Десятки тарантулов вонзают в него свои смертоносные жала и взбрызгивают яд. Декан дергается в конвульсиях, из его рта летит пена. Он так и не успел поведать несмышлёным ребятам историю ленинской гвардии, которую они должны знать и стремиться подражать бесстрашным рыцарям революции. Гибель нескольких десятков советских комсомольцев и комсомолок оплачут их безутешные родители, друзья, знакомые и соседи по лестничной площадке.
— Там правда тарантулы, — прошептал Толя, сначала налево, потом направо. – Почему вы не верите?
Ему не верили. Тогда еще не было американских блокбастеров, фильмов ужасов. И поэтому советская молодежь все страшилки оставляла еще в пионерском детстве. То, что в Америке, смотрели, затаив дыхание, для советского народа было недоступно. Слова «вампир» и «зомби» еще не проникло в лексикон советского народа. В голове Толи до самого звонка крутился как раз такой фильм ужасов с живописными подробностями. Русская революция на этом фоне померкла и отошла на задний план. Она была чем-то очень далеким, а тарантулы вот они, рядом. Может быть, за дверью.
Со звонком, когда преподаватель замолкал и давал понять, что лекция закончилась, первыми выходили студенты. А их ментор складывал в портфель свои принадлежности. На этот раз Иван Афанасьевич спешил. Ему нужно было в райком партии. За пять минут до звонка закруглился, сказал, что должен уйти чуть пораньше. Но они должны дождаться звонка. И пусть пять минут позанимаются своими делами.
Иван Афанасьевич убрал тетради, гордо выпрямил спину и двинулся к выходу. Смотрел он прямо перед собой. Для него студентов уже не существовало. Всем своим существом он был уже в райкоме. Он открыл двери и тут же резко захлопнул их. Посмотрел на студентов. Каждый был занят своим и на него уже не обращали внимания. Он стал по-детски беспомощным.
— Там… там тарантул. Понимаете? – тихо проговорил он. – Он сидит возле двери и глядит.
Подняли головы. Немая сцена. Гробовая тишина. даже Соня проснулся и полусонно глядел на Ивана Афанасьевича. И чей-то ехидный голос.
— Закусывать надо, Иван Афанасьевич, когда пьете. А то и не такое предвидится, поверьте уж моему опыту!
Никто не засмеялся. Это уж слишком дерзко. Но дело даже не в этом. Иван Афанасьевич как будто и не слышал этой ехидной реплики. Если историк говорит, что за дверью тарантул, значит, он, действительно, там есть. История любого приучит к правдивости. Партия никогда не врала народу. Даже когда народу этого сильно хотелось.
Приволокли стул. Застопорили дверь. Как будто целое полчище тарантулов разгуливало по учебному корпусу. И это полчище в любое время могло ворваться в аудиторию.
— А может быть, нам послать разведчика? – предложил кто-то.
— Разведчика? Зачем? – удивился Иван Афанасьевич. – И к тому же это очень опасно.
— Конечно! Выйдет, а его там цап – и всё! Покойник, — согласились с деканом. – Рисковать нельзя.
Стало еще страшней.
— Как же этих тарантулов ловят в пустыне? Наверно, сачками, как бабочек? Никто не знает?
— А я вот читал, как однажды отряд крестоносцев расположился на ночь.
— И чо?
— А ночью их лагерь окружили тарантулы и напали на них. И целый отряд погиб, так и не добравшись до Палестины.
— Кончай ты со своими историями! И без тебя тошно. Наверно, сам сейчас придумал? И к тому же, у них же оружие.
— У кого? У пауков?
— Ты чо? Совсем тупой? У крестоносцев. У них же мечи и копья. И опять же они в доспехах.
И что? Копьями они бы отбивались от пауков?
— Харэ врать! И так уже поджилки трясутся. Историки нашлись! Карамзины! Девчонки! Это они шутят.
— Поджилки? Это что такое?
Дверь затряслась. Все отхлынули к стенам. Коллективное воображение уже рисовало поле боя. Вот сейчас падет последняя преграда и в аудиторию хлынет потоком лохматое воинство. Убежать от них невозможно и некуда. к тому же в стремительном прыжке они догонят любого.
Дверь опять задергалась. Девчонки завизжали. Их кучка еще стала плотней. Кучка страха!
— Мамочки!
— Мужчина! Сделайте же что-нибудь! Кто-то же из вас и в армии служил. Только не стойте!
— И что делать?
— Убейте их+!
— Чем? Портфелями? Конспектами по истории партии?
— Конспектами, ребята, не надо! Вам еще экзамен сдавать. Ну, тем, кто выживет, по крайней мере.
— Да что там такое? Откройте! Что за шутки дурацкие! Мы Ивану Афанасьевичу пожалуемся.
Это снаружи. Конечно, тарантулы способны на всё. но вряд ли они умеют говорить человеческими голосами… В научной литературе нет ничего о говорящих тарантулах.
— Кто это? – спросил самый смелый.
— Дед Пихто! Нас сюда послали на лекцию. По истории партии. Наш преподаватель заболел.
— Вы люди?
— Ты что идиот? Ну, хватит уже! Пошутили и хватит. Открывай давай, шутник! Слышь!
— Чего слышь?
— Чего вы закрылись?
— А тарантулы где? Там были тарантулы. Вот мы и закрылись. А сейчас они где? Рядом с вами их нет?
Это была группа экономистов. Им, конечно, история партии постольку поскольку, но раз сказали, нужно идти. Так вот один из них хмыкнул. Нагло так и громко.
— Обкурились что ли? Какие тарантулы?
— Ну, большие такие, лохматые. У них окрас желтый и черные полосы. Кстати, укус их смертелен. Хлопнул и уноси. Кто на новенького? Вот такие дела, ребята. Так тарантулы с вами?
— Иван Афанасьевич! Что у вас там происходит?
Иван Афанасьевич молчал. Лучше бы спросили что-нибудь по истории партии. Эта тема ему ближе.
— Слушай, дебил! Если ты сейчас не откроешь двери…
Смельчак осторожно вытащил стул. Остальные отошли подальше. Двери распахнулись. Ко всеобщему удивлению потока тарантулов не последовало. Вообще ни одного. На пороге стояли студенты. Из другой группы. Экономисты.
— Чего закрывались-то?
— А это… где тарантулы? Вы чо их не видели? Тут были тарантулы! Вот такущие! Мохнатые!
15
КРУЖАТСЯ ДИСКИ! О!О!
У Жени была громкая фамилия Добролюбов. И надо же так! После университета он стал редактором районной газеты. Газета при нем преобразилась. В ней появились проблемные статьи, критика в адрес районных властей, стали много писать о культуре и досуге. Женя был охотником и рыболовом. И все свободное время пропадал или на охоте, или на рыбалке. А зачастую совмещал и то, и другое. Первый секретарь видел, что газета пользовалась популярностью, поэтому некоторую резкость прощал. Тем более, что партия требовала больше критики и самокритики.
Прибрежные кусты зашевелились, раздался шелест, как будто переворачивали страницы газеты.
Из зарослей поднялась плотная утиная туча, утиный крик разорвал утреннюю тишину, как взрыв снаряда. Для него это было неожиданно. Он не приготовился к такому. Ружье было заряжено. Он схватил его. Стремительно поднялся. Как в армии перед офицером.
Он вскочил на ноги, прицелился, сделал шаг вперед, забыв, что он не на берегу. И полетел в воду. Ледяной холод иголками пронзил каждую клеточку тела. Дыхание перехватило. Он подумал не об этом. Ружье выпало из рук. Хорошее ружье, которым он гордился. Он уже хотел нырнуть за ним, догнать его до того, как оно опустится в ледяной мрак и погрузится в мягки ил. Тогда уже найти его будет невозможно. Тут же понял, что это безумие. Судорожно подгреб к лодке. Ухватился за край.
Лодка накренилась. Он стал подтягиваться. Осторожно. Резкое движение – и перевернет. Перевалился. Упал на дно лодки. Как жалко ружье! Новенькое! В этом году купил. Теперь не скоро купит другое. А значит, осенняя охота накрылась. А сейчас столько дичи!
Его нашли на следующий день. Лодку отнесло течением, она застряла в прибрежных кустах.
В очередном номере районки опубликовали некролог с фотографией, на которой он выглядит, как в студенческие годы: с черной бородкой, длинными волосами и прямой челкой, как у битлов. В черном костюме с узеньким галстуком. Ему бы понравилась эта фотка.
Он был неплохим редактором. Хотя сам особо не любил писать. И понимал, что писатель из него неважный. От силы его хватало на очередную передовицу, которую он долго вымучивал.
Женя был вторым, кто умер из нашего курса. Первым тоже был Женя. Лавров. Тот самый, который рассчитался с Толей за проигрыш в карточной игре американскими джинсами. Лучше бы он тогда выиграл. Но никому не дано знать своей судьбы.
Но не об этом. Поскольку это всё-таки книга студенческих историй. Хотя это тоже очень интересно, как сложилась жизнь выпускников.
Битлов Женя узнал еще в выпускном классе. И на всю жизнь влюбился в них. То есть в их музыку. Потом была армия с ее строевой, когда приходилось петь и слушать совсем другие песни. И с этой поры у него сформировалась к советской попсе стойкая аллергия.
Уже в университете он слушал целые альбомы, а не отдельные синглы на миньонах.
У него был магнитофон «Астра», лучший по тем временам советский аппарат. Тянул он на месячную зарплату рабочего или ИТР. Перед университетом Женя два года работал, так что свою заветную мечту он сумел исполнить. Но чтобы попасть в клуб избранных, нужно было обзавестись диском, желательно западным, одной из музыкальных групп. Стоили они от сотни и выше. Такая роскошь большинству студентов была недоступна. Даже редкие переводы из дома не спасали. Зато существовала хорошо отлаженная система. И меломаны мечтали попасть туда и стать своим.
Женя не просто мечтал об этом, он жил этим. Попасть в клуб избранных стало целью его существования.
Но как открыть дверь в заветный клуб западной музыки? Единственный ключик – это заветный диск.
Как-то речь зашла о битлах. Женя говорил о них восторженно, в основном одними междометиями. Другие такого восторга не разделяли. Жене это было непонятно.
— Сколько у тебя альбомов? – спросил Лавров.
—Пять! – гордо ответил Женя. – Уже пять кассет. У меня вообще-то «Астра». Звук, знаешь, какой!
— Кассет?
Лавров улыбнулся.
— А хоть с дисков записано?
— Ну…
— Если переписал с другой кассеты, качество не может быть хорошим.
Женя согласился.
— Да где же я диски возьму!
— А не надо их брать. Одного диска хватит. И все остальные будут у тебя. Очень простая схема.
Женя рассказал про неформальный клуб меломанов. Как действует эта система. Всё по-детски просто. Но требуется незначительный первоначальный капитал. Хотя для многих он все же значительный. Лавров не был музыкальным фанатом. Такое впечатление, что ничего его в жизни серьезно не интересовало. Ко всему он относился легко. Если что-то ему было интересно, то как-то так, слегка, мимоходом, чуть ли не на бегу. Девушками он не увлекался. По крайней мере, никто его не видел с какой-нибудь прекрасной прелестницей. И разговоров на эту тему избегал. Похабных анекдотов не рассказывал. Внешность у него была завидная. И девушки западали на него. Но, вероятно, ни одной еще не удалось заполучить его сердце. А может быть, здесь была какая-то таинственная история.
Добролюбову даже по ночам во сновидениях являлся заветный клуб меломанов. Нужно было действовать.
Он перестал брать в столовой мясное. Никакого кофе. Слабо заверенный сладковатый чай. Жалостливые письма родителям, особенно бабушке, посыпались осенним листопадом. Бабушка была аристократических кровей. Ее детство и молодость прошли в северной столице. Видела Александра Александровича Блока. Любимому внуку подарила турку, которой было не меньше ста лет. Кофе, сваренное в ней, пахло балами и кавалергардами. Кстати, растворимого кофе тогда не было. Покупали кофе в зернах, которые еще нужно было правильно обжарить, а потом смолоть.
И вот собрана желанная сумма. И в воскресенье Женя рванул на барахолку. Узнать торговцев дисками было просто. Они стояли в сторонке. Почти на всех были длинные плотные пальто. У каждого портфель. Или держал в руках. Или портфель стоял возле ног. Женя выбрал самого, как ему показалось порядочного. В кепке.
— Мне бы диск.
Тот в фуражке покосился на него, изучающе рассматривал.
— И чего?
— Диск. Чего! Пластинку, то есть.
— Пластинки, молодой человек, продаются в культтоварах. А вон видите бабушка сидит. Она старые продает, ретро. За копейки.
— Да мне бы западное. Современное.
Кепка еще пристальнее оглядела его.
— Ну… А что интересует?
— Битлы вообще.
— А конкретно?
— Последнее что-нибудь.
— «Эбби роудз» устроит?
— Устроит! Еще как устроит! Только это… Мне надо оригинал, а не перепечатка.
— Ну, это на полтинник дороже.
— Конечно. И это… без обмана чтобы.
— Обижаешь, друг! Я же здесь постоянно стою. Мне проблемы не нужны.
— Ладно! Покажи!
Придерживая кепку, торгаш наклонился, щелкнул замком на портфеле.
— Вот! Гляди!
Женя готов был запрыгать на месте. Но сдержался. Он уже наслушался советов. Долго рассматривал конверт. Потом извлек наполовину диск, крутил его и так, и эдак, рассматривал блики, нет ли царапин. Вроде бы всё чисто.
Ему показалось, что прошла вечность, пока он дождался автобуса. Потом целую вечность ехал до городка. Народу было немного. Даже свободные места. Женя держал портфель на коленях. Рисовал апокалиптические картины. Зашел пьяный бугай, встал возле него, а потом повалился прямо на портфель. Откуда раздался треск. Или зашли менты. «Откройте, пожалуйста, ваш портфель? Откуда у вас иностранная пластинка?»
Наконец-то он в общежитии. И комендантша на месте. Ключ от ленинской комнаты она дала. Женя сказал, что в райкоме ему дали пластинку с записью выступлений на последнем съезде. Поверить в такое она не могла. Ну, а вдруг? И она не дала ключ. Это же идеологическая диверсия.
Лучше от греха подальше. Ну, подумаешь, соврал хлопчик. А кто в наше время не врет?
Ленин был представлен гипсовым бюстом, который стоял на тумбочке на красной ткани. А напротив него на черных ножках большая радиола. Такие можно было увидеть только в красных уголках и ленинских комнатах.
Это была прекрасная советская техника. Даже глушилки не могли убить на ней вражеские голоса. В прочем, Женя их не слушал. Или почти не слушал. Кроме коротких комментариев Сени Новгородского и песни западных групп.
Качество было ни туда ни сюда, ни в Красную Армию. Но зато можно было узнать последние новости музыкальной жизни. А вот партийные и комсомольские лидеры могли слушать эти самые голоса с полным удовольствием, чтобы еще аргументированней обличать американский империализм вместе с его приспешниками. Женя сбросил пальто на стул и включил радиолу.
Радиола приветливо замигала. Чего-с угодно? Послушать радио или покрутить пластинки?
Женя медленно опустил пластинку, держа ее за края, на резиновый круг. Выдохнул.
Нажал рычажок. Бережно опустил головку с иголкой на самый край. Если сейчас грянет краснознаменный хор или Эдуард Хиль с «Вода! Вода! Кругом вода», у него разорвется сердце. Секунды показались ему вечностью. Тихий шепот иголки был бесконечным. Из динамиков полились звуки гитар, ударные Ринга Стара, которые ни с чем не спутаешь. Голос Джона Леннона, который был похож на Ленина не только фамилией, но и миллионами поклонников по всему миру. Женя опустился на стул.
Никогда еще он не был так счастлив, как сейчас. Он еле сдерживался, чтобы не завопить во все горло.
Он не был так счастлив, когда получил первую пятерку. Он не чувствовал такого восторга, когда поступил в университет. Ему не было так хорошо, даже когда дали первую стипендию, и он всю ее прогулял в РЗД, чтобы потом почти месяц сидеть на капустной диете.
Ему хотелось прыгать, вопить и обнимать всех, уверяя, что смысл жизни в том, чтобы сейчас оказаться в Англии, США, Германии, Японии… да где угодно… лишь бы там, где были его кумиры, чтобы наслаждаться их божественными голосами.
Началась новая полоса в его жизни. Нет! Началась его новая жизнь! Родился новый человек!
Через месяц у Жени было уже половина битловских альбомов, которые он переписывал на небольшие магнитофонные катушки. Входил как раз один альбом. На задней стороне конверта он старательно записывал содержание альбома, то есть названия песен. Разумеется, на английском языке. Так же, как и на оригинале.
И продолжительность звучания каждой песенки. Как указано на конверте. Но чего-то не хватало.
В одной группе учился с ним Саша Соловьев. Удивительный парень, который никогда ни на кого не сердился. Встречаясь с кем-то, он всегда улыбался. С ним было легко.
Мать его работала деканом исторического факультета. Но в педе. Именно поэтому в пед Саша не пошел. Он мог бы жить в общежитии. Университет был единственным вузом в городе, который давал места в общежитии городским. За исключением тех, кто жил в городке. Саша предпочел каждый день ездить из дома. Хотя однокурсники его уговаривали прописаться в общежитии. А жить не обязательно. Меньше народу, больше кислороду. Час туда, час сюда каждый день. Он уже на первом курсе перечитал в третий раз «Войну и мир». Второй раз он перечитывал эпопею, когда лежал в больнице.
Кроме истории, Саша увлекался фотографией. У него был «ФЭД». Это был тогда лучший аппарат с немецкой оптикой. Он и предложил Жене перефотографировать картинки с конвертов. Делал большие фотографии и маленькие специально для магнитофонных коробочек. Еще у него был какой-то особый способ ретуширования фотографий. Штриховал цветными карандашами, потом одеколоном делал ровный цвет. И все это дело чем-то закреплял. Получались классные цветные фотографии. Их Женя наклеивал на магнитофонные коробочки. Это было, как сейчас бы сказали «ноу-хау».
В общежитии ничто не может долго оставаться тайной. Тем более, если никакой тайны и не делается. Женину фонотеку, которая постоянно пополнялась, теперь пересмотрела не только вся «пятерка», но и меломаны из других общежитий. У всех она вызвала восторг. И каждому хотелось иметь что-нибудь такое.
Женя сделал первую кассету. И счастливый обладатель ее, кажется, он был математиком, протянул ему десятку. Первым побуждением Жени было отказаться, но тут же подумал: а почему. Он сделал работу, сделал качественно, потратил время, оформил конверт. С радиолы, что была в ленинской комнате, можно было записывать сразу на два магнитофона. Конечно, это была Женина «Астра» и еще чей-нибудь магнитофон. За один проход записывал сразу две кассеты. Порой за вечер или выходной выходило до полсотни. Это повышенная стипендия. Женя предложил деньги Саше. Тот ему поставлял фотографии. Совершенно бескорыстно. Саша улыбнулся и наотрез отказался. Деньги его совершенно не интересовали.
Женины кассеты пользовались популярностью. Как говорится, «слух обо мне пройдет по всей Руси великой». Студенты других факультетов, фэмэшатники, старшеклассники, пэтэушники проложили тропу к «пятерочке» и смотрели на Женю, как на гуру.
В родной Барабинск Женя отправлялся с очередной партией кассет, которая расходилась влёт. Предтеча будущих студий звукозаписи удовлетворял спрос на западную музыку, которая пользовалась бешенной популярностью в отличии от советской.
Время от времени в ленинскую комнату захаживала комендантша и не находила ничего предосудительного. Спиртного не пьют, не тискаются, сидят, слушают музыку. Делают записи. Ну, и она сделала бы, если бы ей было нужно. Но музыка ее как-то не очень задевала. Приятные песенки, не то, что у Высоцкого, у которого то алкаши, то бандюганы, да еще всё это хриплым, пропитым, прокуренным голосом. Что там может нравиться? Нет! Приятно послушать и потанцевать можно под такую музыку.
Женя умел останавливаться. В конце концов, всё тайное когда-то становится явным. Может быть, товарищи из органов уже начали присматриваться к нему и рано или поздно возьмут под микитки. Пришьют спекуляцию. Деньги-то он брал. Да еще и аппаратурой пользовался государственной. После джинсовой истории с Кириллом, он резко завязал с этим делом. Как отрезал! И делал теперь записи только для себя. И для друзей. Но очень редко. Битлы у него были в полном комплекте. Остальные группы его не интересовали. Мог послушать, но не более одного раза. Считал, что они не дотягивают до битловских шедевров. Зачем ему второй сорт?
Можно ставить точку в истории. Но она имела продолжение. Герой ее тоже Женя, но уже другой. Собственно, никакой истории и нет. Пустячок! Но забавный, который многим запомнился. Из таких историй, забавных и печальных, и складывается мозаика жизни советских студентов. Хотя кому-то они и могут показаться малозначительными. Поэтому продолжение будет. Две эти истории связаны с собой.
Жека Пилипенко, хохол, здоровый бугай, разбирался в музыке, как свинья в апельсинах. Ему что Бах, что Кобзон с Аллой Пугачевой одинаково. Ну, шумят, чего-то вопят. Если он и отличал Джона Леннона от Лещенко так только потому, что один поет на английском, а другой на русском.
Своему тезке он завидовал самой черной завистью. Мало того, что тот элегантно носил костюмы, так еще и при деньгах был. Не стучал. Но крутился вокруг и всё расспрашивал, что да как. Мотал на ус. Появлялся время от времени в ленинской комнате. Добролюбов не испытывал симпатии к тезке, отделывался от него полушутками. Пилипенко и этого хватало, чтобы понять, насколько выгодное это дело. И не очень-то хлопотное. И почти никакой опасности, если всё делать с умом и оглядкой.
В те времена это называлось по-русски «делать деньги». То, что в странах загнивающего капитализма зовут «бизнесом». Стал уговаривать Женю съездить с ним на барахолку, помочь с покупкой диска. Ведь он же с этим делом знаком. А когда не знаешь, легко пролететь. Он боится, что ему подсунут фальшивку. Добролюбов категорически отказался. Никакие уговоры, доводы на него не действовали. Подробно проконсультировал на этот счет и уверил, что если он будет соблюдать все его рекомендации, то не поведется на обман.
Вот Женя на барахолке. Долго расхаживает, переходит от одного торгаша к другому, порой вворачивает музыкальные термины, значение которых ему неизвестно. Любому торговцу ясно, что перед ними профан, которого просто грех не кинуть.
Женя покупает диск «Шокинг-блю». На конверте такая картиночка, пальчики оближешь. Вот умеют же проклятые капиталисты делать так, что внизу живота становится жарко!
Эта группа особенно нравилась девчонкам. Это было одной из причин, а, может быть, и главной причиной, почему Женя решил остановить на ней выбор. По крайней мере, она была у него на слуху. Он долго глядел на конверт и думал, кого бы он первой затащил в постель. Женя всегда думал об этом, когда видел симпатичных девчонок.
Вон он приезжает в родную «пятерку», ходит по общежитию, заглядывая почти в каждую комнату. Его распирает. Он чувствует себя Наполеоном, не меньше, который вот-вот покорит весь мир. Показывает диск. В ответ «ох-ах! Когда будем слушать?»
Незаметным оставить свое возвращение Жека не мог. Не такой он был человек. Ему нужна публичность. Триумф должен стать триумфальным. Он с диском обошел всю «пятерку». Зависть и восхищение воспринимал как должное. Разве могло быть иначе? Каждый раз он торжественно изрекал:
— Шокинг-блю!
И показывал конверт с диском. Но в руки никому его не давал. Мало ли что! Нечего хапать!
— Самая суперпопулярная группа! Весь мир от нее стоит на ушах. Даже Иисус Христос не пользовался такой популярностью. Битлы – это вчерашний день. Шопинг-блю завоевала все страны и континенты. Их песни звучат даже на космической орбите. В основном, конечно, их шедевр «Чё он не встает». Моцарт отдыхает.
Чем дальше он углублялся в дебри общежития, тем всемирная слава «Шокинг-блю» становилась еще всемирнее. Их слава уже перешагивала за пределы нашей Солнечной системы. Солистка Мориска Верис, полячка, перебравшаяся в Англию, стала певицей всех времен и народов. Ее голос зачаровывает, околдовывает, творит чудеса. Музыканты прошлого ворочаются в гробах и давятся слюной от черной зависти. Если бы они ожили, то в своих костяных объятиях задушили бы ее, получив при этом полное удовлетворение.
Когда Женя закончил свой обход, ленинская комната была забита под потолок. Многие сидели на полу. Пожаловала комендантша Альбина Ивановна. Женя зашел к ней первой, после того как возвратился с барахолки. Тем самым показывая, кто есть кто. Долго ее уверял, что творчество суперпопулярной группы «Шопинг-блю» одобрено партией и правительством, поскольку в текстах своих песен они раскрывают античеловеческую сущность буржуазного общества и выражают взгляды рабочего класса и передовой интеллигенции и молодежи. Именно это и стало причиной их популярности. Альбина Ивановна не могла не прийти на первое прослушивание после того, что она услышала от Пилипенко. Это могло бы неправильно растолковать руководство. Заняла почетное место на мягком стуле как раз напротив радиолы, сложив руки на животе. По сторонам она не смотрела. Слишком много чести!
— Где мы ходим? – такими словами встретила она триумфальное появление Пилипенко в ленинской комнате.
— Альбина Ивановна! Не отпускали! Все хотят, как можно больше узнать о творчестве этой прогрессивной группы, ставшей символом борьбы всех антикапиталистических сил. Знаете, я не мог остаться равнодушным к зову нашей молодежи, которая живо интересуется общественными проблемами и социальными движениями.
— Языком кончай трепать! – не выдержала Альбина Ивановна. – Ставь своих п…
Она добавила русское слово. Ну, не совсем русское. Что говорит о том, что у наших предков не было этого явления. А потом появилось и пришлось брать для него иностранное слово, которое по своей популярности и частоте употребления оставила далеко позади исконно русские слова. Откуда нам знать, что век грядущий нам готовит.
— Зачем вы так, Альбина Ивановна? Они же разоблачают…
— Знаю я, что они разоблачают. Вон с голыми пузами стоят на фотографии. Трусы хоть не сняли. И за то спасибо.
Так Женя не брал даже первую в своей жизни рюмочку вина, первую ладонь первой девочки. Двумя пальцами за край. Он медленно поднес диск и опустил его на резиновый круг. Поднял голову, скосил глаза вниз и некоторое время любовался. Это был шедевр! Поднес звукосниматель к краю, опустил и мягко передвинул рычажок, который включает движок проигрывателя. Он тут же загудел, ровно и тихо. Зашипело. Потом знакомый до отвращения девичий звонкий голос жизнерадостно запел, причем на чистом русском языке, отчетливо проговаривая каждое слово, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что это не собачий инглиш:
Жил да был черный кот за углом.
И кота ненавидел весь дом…
Последовала немая сцена, как в гоголевском «Ревизоре». Женина грузная склоненная фигура изображала городничего, которого так глупо развели, его, который уже в детском садике обманывал воспитателей, мог обвести вокруг пальца играючи любого Остапа Бендера. Нет! Здесь какая-то ошибка! Вот сейчас черный кот скроется за углом, и соблазнительная английская певица польского происхождения запоет на чистом языке англосаксов своим ясным, как летнее утро, голосом о том, «чо он не встает». Нет! Должно быть именно так! Иначе просто не может быть. Но кошка продолжала мурлыкать с котом.
Первой пришла в себя из оцепенения Альбина Ивановна. От ее умиротворения не осталось и макового зернышка. Тяжело поднялась и, не глядя ни на кого, прошествовала, как и подобает командиру в окружении подчиненных, к дверям.
Грохнуло. Многие так искренне, от души не смеялись в своей жизни. Кто-то сполз со стула. Были очень благодарны Жени, который подарил им несколько минут счастливого смеха. Вполне искреннего. Только один человек не смеялся. А кто, догадайтесь сами.
16
«КОПАЙТЕ, ШУРА! КОПАЙТЕ!»
Это была восхитительная традиция. Но всё хорошее, в отличии от плохого, не вечно. Явление, имевшее глубокий философский, онтологический и мировоззренческий смысл. Фу! Как в учебники по историческому материализму, которые когда-то заучивали до дыр.
Первого сентября, когда для миллионов мальчишек и девчонок звенел первый звонок, призывающий их сесть на многие-многие дни за парты, когда миллионы юношей и девушек растекались шумными потоками по аудиториям вузов и техникумов, другие миллионы молодых людей, одетых запросто по-рабоче-крестьянски, с рюкзаками, мешками, объемистыми сумками садились в автобусы, пригородные электрички, спускались в трюмы речных трамвайчиков, чтобы добраться до полей картофеля, капусты и других овощей, без которых существование советского человека было бы уже не таким приятным.
Сентябрь у студентов-первокурсников назывался «на картошку». Хотя это могла быть и капуста. Но чаще всего картошка. Весь месяц без выходных и проходных девушки и юноши от рассвета до заката трудились на картофельных полях, после чего субботники на овощебазах и по уборке территории им представлялись замаскированным способом «давить сачка». После картошки в вузовских аудиториях сидели уже не бывшие школьники, наивные и романтичные, уверенные, что жизнь – это праздник, который всегда с тобой. Это были уже молодые люди, прошедшие суровую закалку, которые знают, что такое колхозно-столовское меню, ночевки в фанерных пионерлагерных бараках и бесконечная однообразная работа на полях с чистым воздухом. Картошка меняла жизненные представления, особенно у городской молодежи, уверенных, что картошка и прочие овощи вырастают в подвалах овощных баз. Теперь на мужиков и баб с узлами, которых они видели на вокзалах и брезгливо обходили стороной, они уже смотрели другими глазами: как на людей, для которых полукаторжный тяжелый физический труд был не наказанием, но образом жизни.
Первое сентября. Лето еще не закончилось. Тепло. Солнечно. Настроение выше облаков. Хочется прыгать, чего-нибудь петь такое, о том, что жизнь – это сплошное счастье. Месяц на картошке никого не пугает. Ни ты первый, ни ты последний. Зато рядом нет надоедливых взрослых. Главное, что ты уже студент. И что с того, что целый месяц ты будешь держать в руках не ручку, а лопату, и видеть перед собой не доску, на которой пишут мелом, а бесконечное, как море, картофельное поле. Подумаешь! Нас же вон сколько! Целая армия! Да мы это поле смахнем и не заметим!
Кто-то уже познакомился на вступительных экзаменах. Впереди целых пять лет вместе. Вместе, рядом писать конспекты, трястись на экзаменах, дружить, любить, жить полноценной взрослой жизнью. Еще неизвестно, кто есть кто. Даже многих не знаешь по именам. Но это ненадолго. Совсем скоро все перезнакомятся, появятся новые друзья и подруги.
Это даже интересней. Дальше тебя будут ожидать постоянные открытия, новые друзья будут удивлять тебя. Одеты все соответственно. Или в спортивку или в рабочее х/б, которое позаимствовали у родителей и у старших братьев. Вот девушки, хоть и не на танцы собрались, но и тут остаются верными своему полу. Самое страшное для них – выглядеть некрасиво. Пусть и не такая яркая, ка для дискотеки, косметика. Губки там, тени, ресницы, ноготочки, само собой, подкрашены. Хотя понимают, что недолго держаться лаку. Коротенькие юбочки, на ком-то сарафан со цветочками, как будто собрались не на картошку, а на пикник или на дачу позагорать, ослепить деревенскую гопоту. Рюкзаки внушительные. Там, если и не весь гардероб, то уж точно значительная часть его. Девушки живут по принципу: едешь на день, бери нарядов на неделю. И так далее.
Из провожающих родители. Впервые их родные чада уезжают так далеко и надолго. В неизвестность. Что там и как будет, даже страшно подумать об этом. Ведь они еще такие маленькие.
Душа их страдает. Перед взором возникают самые страшные картины, как мучаются их несчастные дети. Всю дорогу они наставляли, что съесть в первую очередь, а что можно растянуть, чтобы непременно писали письма, для этого они положили полсотни чистых конвертов, остро заточенные карандаши, если вдруг паста в ручках замерзнет, чтобы одевались тепло, потому что по ночам уже будет холодно. Мамы понимают, как много они еще не сказали и что-то важное непременно упустили. Потом они вспомнят это важное и будут корить себя за то, что не сказали его. И теперь их ребенок обречен на невыразимые страдания. И они виной этому страданию. Разве можно высказать всё за неделю до картошки и за те несколько часов до расставания? Почему жизнь так безжалостно, даже времени ей жалко?
Долгое-долгое расставание стремительно сокращается. Подходят большие автобусы и выстраиваются в линейку перед главным корпусом. Некоторые мамы пускают слезы. Из дверей учебного корпуса, где уже начались занятия, появляется внушительная делегация. Они идут неторопливо. Конечно, им-то торопиться некуда. Им-то хорошо! Впереди ректор, следом деканы факультетов, полковник Иванов, начальник военной кафедры университета, военком, председатель профкомитета, первый секретарь райкома комсомола.
Командиры отрядов – это аспиранты, возраста от двадцати пяти и старше, большинство с бородками, в стройотрядовских костюмах, стоят возле своих отрядов. Они связующее звено между первокурсниками и высшим начальством. А на среднем звене, как всегда, и лежит основная работа и ответственность.
Дают команду на построение. Ректор подходит к микрофону. Стучит по нему пальцем. Говорит о хорошей традиции, о том, что сегодня первокурсники от Калининграда до Владивостока отправляются на колхозные и совхозные нивы, чтобы помочь сельским труженикам. Это наш патриотический и гражданский долг.
Красноречив первый секретарь комсомола. Ему доставляет наслаждение процесс говорения. Он говорит о подвиге Павки Корчагина, первоцелинников и строителей БАМа. На нем тоже стройотрядовское одеяние, которое стало ему явно тесновато. И плотно обтягивает его фигуру. Вскидывает кулак, как Че Гевара. Лицо его каменеет. Настоящий сфинкс.
— Не подведем!
Полковник Иванов немногословен и конкретен. Дисциплина должна быть, как в армии, приказы беспрекословно исполняются, любые нарушения наказываются. Всё должно быть по принципу «упал – отжался». Хотя про «упал – отжался» он не стал упоминать. Мамочкам не нужно беспокоиться. Это уже не дети, а будущие воины и воительницы, ученые, строители светлого коммунистического будущего. Они уже самостоятельные люди. Родителям не разрешается приезжать в лагерь. Да и времени для встреч не будет. Это не детский сад, а битва за урожай. Без выходных и праздников. Ну, если, конечно, не выпадет тропический ливень или снег толщиной с один метр. Но синоптики обещают, что сентябрь будет теплым и без осадков. Почти без осадков. Услышав про снег, мамочки бледнеют, губы их беззвучно шевелятся. Что они шепчут, молитвы или проклятия, не дано знать. Скорей всего, и то и другое одновременно.
Про валенки, шубу и шапку-ушанку они как раз и позабыли. Совсем закрутились последние дни.
— По автобусам!
Последние объятия, слезы, наставления. Но обязательно что-нибудь важное забудут сказать.
Ребята шумно рассаживаются. Прощальный митинг несколько утомил их. Некоторые даже опасались, что сейчас прозвучит команда «Отбой!». Они возьмутся за ручки и пойдут учиться.
Мамочкам же всё это представлялось, как детский утренник в садике или начальной школе, которые они непременно посещали. Утренник закончится, и всё вернется на круги своя. А разве может быть иначе? Никак не может быть иначе! Ведь это их кровиночка! Мамочки возьмут их за ручки и поведут домой кушать кашку и слушать стишки про телефон и Мойдодыра, слыша которые их детки скрежетали зубами.
Всё! Автобусы медленно выплывают на дорогу. Неужели поехали! Не верилось до последнего момента. Жизнь начинается! Прощай, Академгородок, еще не успевший для большинства стать родным! Но ничего! Всего какой-то месяц на свежем воздухе! С той и другой стороны потянулся бор, замелькали деревушки. Легковые автомобили обгоняли автобусы. За рулем сидели нахмуренные деловые дяденьки. Лес закончился. Потянулись золотые поля, которые разнообразили березовые колки. Листва еще была зеленой. Редко мелькнет желтое или красное пятно.
Свернули с асфальта и запрыгали по грунтовой дороге. То и дело притормаживали. Проносились грузовики, оставляя длинный пыльный шлейф, который никак не хотел оседать и висел в воздухе, как след от турбореактивного самолета. Окна пришлось закрыть. Хотя было жарко.
— Подъезжаем! – говорит Степанов.
Это командир отряда гуманитариев. Аспирант. Робкая черная бородка. Скорей даже длинная щетина. Брюнет с большими черными глазами. Девчонки сразу влюбляются в него. Че Гевара настоящий! Не хватает только легендарного берета и автомата Калашникова. Глядя на него, хочется вскинуть кулак и заорать: «Но пазаран!» В те времена многие хотели быть похожими на Че Гевару. Свои революционеры были какими-то старомодными. Никто из ребят даже и помыслить не мог, что наступят времена, когда кумирами молодежи станут эстрадные певцы и футболисты, которые не умеют забивать голов, зато прекрасно устраивают личный бизнес.
— Это что? – раздался испуганный девичий голос.
Все прильнули к окнам. То, что они увидели, никого не могло оставить равнодушным.
— Картошка, дорогие друзья! – сказал Степанов.
— Это… картошка?
В это невозможно было поверить. Какая же это картошка? Это целая вселенная! Зеленый мир!
Настроение у всех испортилось одновременно. Зеленый океан уходил за горизонт. Можно было только предполагать, что там за горизонтом. Новые океанские дали? Ехали уже довольно долго. Океан не заканчивался. Он был безбрежным.
— Это мы…
— Да! Да! – кивнул Юра Степанов.
Он сразу попросил называть себя по имени. В университете царила демократия. Доброжелательная.
— Мы это должны выкопать, высушить, загрузить, отсортировать и отправить на овощную базу. Брак не допускается. Картофелина должна быть размером не меньше куриного яйца.
— Это же…
Кто-то хотел сказать «невозможно», но вовремя остановился, потому что для советского комсомольца нет ничего невозможного. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Настроение у всех было окончательно испорчено. Воцарилась тишина. Это первое сентября! По шкале радости занимавшее второе, ну, пусть третье место, потому что после долгих летних каникул встречались с друзьями и подругами. Новый год, конечно, на первом месте. День рождения, само собой. А потом уже день знаний. Действительно, «школьные годы чудесные». Но теперь это далекое прошлое, о котором можно вспоминать с умилительной улыбкой. Поймешь это только тогда, когда тебя привезут на картошку. Именно первого сентября. Это вроде как насмешка над бывшими школьниками. Всё познается в сравнении. Ну, почти что всё. Уж слишком были живы воспоминания о первом сентября. К глубочайшему сожалению.
Поэтому все смотрели затравленными зверьками, когда автобусы остановились на площадке перед пионерским лагерем «Морозовский». От одного названия мороз по коже. Построились отрядами перед высоким забором. Забор был сварен из железных прутьев. Ворота были закрыты. Перед ними стоял сторож Василий Иванович, выглядел он как подросток. Лицо морщинистое, худенький. Если он что и мог усторожить, то только банку с бражкой, которую он заквашивал в своей сторожке.
— Концлагерь настоящий! – сказал лохматый юноша, голова которого, видно, не знала, что такое расческа. Лицо у него было крестьянское, широкоскулое, с выпученными глазами.
Сережа Гончаров. Его отец – академик, но никто из первокурсников об этом пока не знал. А когда узнают, то очень удивятся, поскольку он ничуть не был похож на сына академика. В сорок лет Сережа станет доктором исторических наук, будет читать лекции. Кандидатская его диссертация была посвящена коллективизации в Сибири, каким это благом обернулось для сибирских крестьян. Страна Муравия просто. За эту же работу, но только с противоположными выводами о том, каким злом была коллективизация для сибирских крестьян, ему присвоят звание доктора наук. Может быть, истина где-нибудь посередине на счет коллективизации, да и многого другого.
И кто знает, когда Гончаров дойдет до этой истины, глядишь и в академики попадет.
Никто не развивал тему о концлагере, но молча с ним согласились. Уж слишком как-то негуманно.
Бараки были из досок, снаружи обшитых фанерой и покрашенные масляной краской. Внутри покрашенные панели, а выше побеленные стены и потолок. Перед спальней веранда. Дешево и сердито. Пионерский же лагерь функционировал только летом. Зачем тратить материал и удорожать постройку. О студентах никто не думал, конечно. В июне, июле, августе даже в наших краях еще тепло. Так что нечего заморачиваться. Экономически верная позиция. Экономика должна быть экономной. Вообще-то будущим историкам надо бы это понимать.
Каждый корпус делился тонкой перегородкой на две половины: одна для мальчиков, другая – для девочек.
Полковник строго посмотрел слева – направо. Потом справа – налево. Кивнул Василию Ивановичу. За многие годы он уже привык к этой своей обязанности, которую он, как и все остальные обязанности, исполнял по-армейски строго и четко. Что взять с зеленой молодежи, у которой не было строевой подготовки. Школьные уроки НВП он не брал в расчет. Не считать же военной подготовкой это дебильное топанье по школьному спортзалу. Лучше бы вообще этого не делали. Переучивать хуже, чем учить заново.
— Так! Считайте, что вы на военных сборах!
Родителей не было, поэтому полковник мог не скрывать своей сущности. И говорить не с деточками, а с призывниками.
— Военной присяги вы не принимала, но действует военная дисциплина, как в армии. Историки обязательно бы вспомнили военные поселения, которые завели в прошлом веке. Распорядок дня: подъем – зарядка – умывание – завтрак – построение – разнарядка – работа… Ну, и так далее. Кто с первого раза не может запомнить, может записать. Два часа перед сном свободное время: подшиться, написать письма, почитать любимую книжку, пообщаться с друзьями и подругами. Математики могут решать уравнения. Желательно, чтобы любимой книжкой был «Устав». Шутка! Это я для особо одаренных говорю. У нас тоже любят шутки. Но умные. Запрещается распитие спиртных напитков, строго запрещается покидать территорию лагеря. Всё делается только с разрешения непосредственного командира. Курить в отведенных для этого местах. Хотя лучше расстаться с этой вредной привычкой. Нарушители, злостные симулянты, дезорганизаторы будут отправлены домой с последующим исключением из университета. А также из комсомола. Есть вопросы? Вопросов нет.
— Есть! – кто- то пропищал из задних рядов, невидимый. — Позвольте с места задать вопрос:
— Из строя вышел и представился!
Колонна математиков заколебалась. Кто-то хихикал, кто-то ехидно улыбался. Ожидали провокации. Из недр колонны вытолкнули щуплого очкарика. Слаб телом, но силен духом?
— Варламов. Матфакультет.
— Не знаю такого, — строго проговорил полковник. Но было видно, что ответ его не рассердил. – Знаю вообще-то. Это факультет подворотен, где пьют портвейн и нецензурно выражаются. И говорят всякие пошлости о девушках, которых они и ногтя не стоят.
— Вы очень остроумны, товарищ полковник. А вопрос у меня такой. Личная жизнь допускается?
Все затихли. Воображение рисовало картины из античной мифологии, где Зевс в ярости мечет огненные стрелы.
Всё! Первый кандидат на вылет. Самоубийца! Лицо полковника оставалось неподвижным. Как будто он не имел никакого отношения, к тому вопросу, который ему сейчас задали. Но это была боевая закалка, способность сохранять хладнокровие в любых ситуациях.
— Повторяю для самых умных. Остальные, надеюсь, с первого раза понимают русскую речь. После приема пищи и до отбоя у каждого свободное время, которое он может посвятить личным делам.
Лопат не хватило даже на половину копщиков. Так стали называть юношей, единственным орудием которых на месяц вперед становилась лопата. Не копать же им по очереди? Полковник промокнул лоб платочком. Все были уверены, что если бы у него было табельное оружие, то он немедля ни секунды пристрелил бы нерадивого бригадира на месте, как саботажники и изменника родины, который поставил под удар битву за урожай. У бригадира быстро двигались губы. Но ни единого слова он не проронил.
У полковника сейчас было единственное оружие: грозное слово, которым он мог повергнуть любого врага.
— Чтобы лопаты были у всех! – сказал он тихо, но внятно.
И опустил руку к тому месту, где должна быть кобура. Ладонь задержалась. Большой палец медленно шевелился. Бригадир бросился к драндулету. Так назывался бригадирский мотоцикл с коляской. Мотоцикл был покрыт толстым слоем грязи как броней.
Заводился он или минут через пятнадцать с изрядной долей матерков или с толкача. На этот раз он завелся с первого дрынка. Старших офицеров даже железо боится.
Бригадир приказ выполнил. Даже перевыполнил. Собрал все лопаты, которые имелись в колхозе. Для того, чтобы привезти их, прицепил прицеп. Самодельный. С разными колесами. Реквизировал лопаты у жителей деревни. Колхозный люд прощался с инвентарем безропотно. Бригадир несколько конфузился и говорил, что готов написать расписку, что вернет лопату в целости и сохранности. Для большей убедительности даже печати поставит. Но деревенский человек действует по принципу «На тебе, Боже, что нам не гоже». Некоторыми экспонатами гордились бы музеи. Но были и такие, что и в металлолом сдавать стыдно. Бригадир брал всё, чтобы не обидеть людей.
Каждому отряду отвели свою делянку. Это была полоска по количеству копщиков. Где она заканчивалась, никому неведомо. Поэтому многие решили, что ей вообще нет конца. Другие стали возражать. Конец полосы не дальше государственной границы. Каждый копщик гнал по два рядка. За ним выбирали картошку две девушки. И носильщик относил ведра с картошкой в общую кучу, где картошка подсушивалась на ветерке и солнце.
У всех отрядов такие группки сложились без проблем. А вот у математиков получился напряг с прекрасным полом. Девушек у них можно было рассчитать по пальцам. Поэтому к ним направили девушек из других факультетов.
Вскоре то тут, то там стали раздаваться радостные крики:
— У меня лопата сломалась!
Бригадир не успевал перевести дыхание, бегая от одного к другому. Нецензурную лексику по мере сил старался не использовать.
— Ёшкин кот! Кто же так копает? Бульдозеры прямо какие-то! Вы что ни разу картошку не копали? Видите, земля плотная. Дождями уплотнило, вы тут натоптали. Поэтому нахрапом тут не возьмешь. Загоняешь лопату, она не идет. В другое место переставляешь. Покачиваешь лопату. В другое место переставил. Опять покачиваешь. Захватил весь клубень. И перевернул его. А через пуп тянуть не надо. Тут это не пройдет. Лопата же как девушка. Если ты к ней с лаской, то и она ломаться не будет. Сама пойдет тебе навстречу. Вот так! Видите, сама лопата копает. Я только держусь за нее.
Девушкам сравнение их с лопатами не понравилось. Они фыркнули и отошли в сторонку.
— Эх, молодежь! Не научи вас да по миру пошли! Ничего мы не умеем, ничего не знаем.
Бригадир смотался в лесок и привез целый воз свежих березовых палок. Стал учить математика Костю, как насаживать лопату.
Вдвоем они обстругали палки, убрали заусенцы и насадили. Смотрелось красиво и пахло лесом.
Подъехала машина, ведрами перетаскали в кузов картошку. Шофер с интересом разглядывал девчат. Полковник поднялся на колесо, ухватившись за борт. Заглянул. Долго смотрел. Поднял несколько картофелин, рассмотрел их. Только что на зуб не попробовал.
— Мало! Так мы родину не накормим.
— Накормим! – уверил его бригадир. – Это только начало, товарищ полковник. Еще и работать не начали. Первые дни картошка такая. Видите, ботва-то еще зеленая.
— Вижу!
— Потом будет покрупнее. Она же еще растет. И кожура будет потолще. А сейчас пальцем снимается. Вон желтые кустики. Засохшие. Там уже расти не будет. Но не будешь же латками копать.
— Мы копаем картошку, которая еще должна расти? – удивился полковник. – Знаете, как это называется?
— Если мы будем ждать, когда ботва засохнет, то и до белых мух не выкопаем. Сколько тогда картошки под снег уйдет.
— Где ваше прославленная чудо-техника?
— Ну, где, где, — замялся бригадир. – Известно где. Где и положено быть чудесам техники. Со дня на день из РТМ выедет. Запчастей не было. То сё. Техника-то сложная. Доделывают мужики.
— Вас самих бы кто доделал!
Полковник выругался. Тихо. Чтобы только бригадир услышал. Оба тяжело вздохнули.
— Картофелеробы! Вас бы в армию надо на перевоспитание. Воды мало привезли. Фляги уже пустые. Ребята уже от жажды мучаются. И накрывать надо фляги. На солнце вода греется. Это что трудно сообразить. Вы же деревенские мужики. Не интеллигенты какие-нибудь.
— Исправим! А папироской не напугаете, товарищ полковник? Уши пухнут. Папиросочку бы! У меня «Прибой» закончился. Не рассчитал. День какой-то дерганный. И стреляют много.
Полковник протянул пачку ленинградского «Беломора». Ленинградский «Беломор» был самым лучшим «Беломором». Бригадир пристроил папироску за ухом. Папироска держалась крепко. И никакая тряска на драндулете не грозила ей. Проверено!
— Да забирай пачку! – сказал полковник. – А то еще начнешь у студентов стрелять!
— Нельзя! Я же не милиционер последнее забирать у человека. Парочку папиросок и довольно!
Полковник улыбнулся и пошел к «уазику». Но уже, открыв дверку, оглянулся на бригадира.
— Это… на счет милиции. Так шутить не надо! – строго сказал он. –Моя милиция меня бережет.
Бригадир начал оправдываться. Но полковник уже не слышал его слов. Хлопнулся на переднее сидение рядом с водителем.
Возвращались в лагерь без песен. Даже не шутили. Проезжали грузовики, подняв пыль. Так и шли в облаке пыли. Не было сил свернуть, отойти подальше и подождать, пока пыль уляжется. Пару раз сделали привал. Когда пришли к лагерю, уже начало смеркаться. На темно-синем небе зажглись первые звезды. Они подмигивали, как будто издевались. Кто-то бухнулся и не пошел даже на ужин. Потом раскаялись. Этого не следовало делать.
— Это что теперь каждый день так? – удивлялись некоторые. – Они что решили убить нас? Рабам в древнем Риме, наверно, жилось лучше. Ну, пусть даже не лучше, но они же рабы!
— Зато, как будущий историк, ты будешь иметь наглядное представление о том, что такое рабский труд. И можешь красочно описать сценки рабского труда
в своей будущей докторской диссертации.
На следующий день у многих болели руки, ноги, спины, и они были уверены, что не смогут пошевелить даже пальцем. Хотя бы пару дней им должны дать на восстановление. Но пятикилометровый марш-бросок произвел чудесное действие. Все снова чувствовали себя готовыми к стахановскому труду. У бригадира спросили:
— Иван Васильевич! Как же так? Мы живем в двадцатом веке, в эпоху научно-технического прогресса и до сих пор копаем лопатами картошку, как это веками делали наши предки. Ученые скоро будут выращивать людей из одной-единственной клетки, космические корабли бороздят просторы вселенной, ушли в прошлое массовые заболевания, а картошку до сих пор копаем лопатами.
— Ах, вон вы, о чем!
Бригадир снял фуражку и и почесал пятерней мокрые волосы. У него всегда под фуражкой потела голова. Улыбнулся.
— Скоро мужики доделают наш «прогресс». Чуть-чуть уже осталось. Были бы запчасти, так раньше бы сделали.
К концу недели фортуна улыбнулась им счастливой улыбкой, что означало конец страданиям. Вдалеке раздался невнятный гул. Он нарастал. Казалось, что на картофельное поле надвигается танковая армада, лязгая гусеницами. Но никто не разбежался. Работу бросили и смотрели в одну сторону. Неужели война? Даже война виделась ими как избавление.
Красно-грязное чудовище надвигалось на них.
— Это же комбайн! – догадался кто-то. – Картофелеуборочный комбайн, ребята! Наши страдания закончились!
— А что мы будем теперь делать? Как-то без работы вроде бы скучновато будет. Может быть, нас пошлют колоски собирать?
Так ликовали, когда по улицам российских городов проезжали, посылая воздушные поцелуи, рослые кавалергарды и стройные гусары, которые вернулись из поверженного Парижа. Для дам всех возрастов это было самое яркое впечатление жизни.
Только чепчики не бросали в воздух за неимением таковых. Некоторые девчонки плакали.
Комбайн остановился на краю картофельного поля. Все бросились туда. Каждый старался прибежать первым. Посмотреть на чудо инженерной мысли. Сверху, как небожитель, спустился чумазый комбайнер. Некоторые даже подумали, что это мулат. На драндулете подлетел бригадир.
— Иваныч! Ну, опять эта… трам-парам-пам!
Он назвал слово, в общем-то не предназначенное для девичьих ушей, которым на необъятных просторах нашей родины называют любую деталь отечественного машиностроения.
— Теперь чо? – взвился бригадир.
— Чо? Через плечо? Я что ли крайний? Я когда еще говорил. Так все ходили только руками махали.
Долгая езда до картофельного поля, видно, сказалась на остроте его зрения, и он не видел, что возле комбайна, как на митинге, стоит толпа неоперившихся юн
цов и нежных барышень, ушки которых не были предназначены для такой отборной русской речи.
С полчаса над просторами полей раздавалась ненормативная лексика. Конечно, про работу все позабыли.
Может быть, ему было неведомо, что существует и другой могучий и велики, язык Пушкина и Гоголя. Из книжек он в руках держал только сберегательную. А на все остальные смотрел с полным презрением.
— Давай сварку, Иваныч!
— А в РТМе куда вы смотрели? В пузырь, наверно, только и заглядывали. Ох, вы у меня дождетесь!
— Куда надо туда и смотрели. В эту самую смотрели!
— Ты это… давай полегче! Всё-таки молодежь кругом, культурная, студенты. А у тебя мат на перемате. Григорьич! Не выражался бы! Или как-нибудь тихо это делай, чтобы тебя не слышали. А то кругом культурные городские люди. Что они о нас подумают?
Тут к всеобщему удивлению чумазый, негроподобный механизатор шаркнул ножкой и отвесил галантный поклон в сторону студенческой молодежи. Это было так необычно при его комплекции.
— Мои глубочайшие извинения! Обещаю впредь воздерживаться от матерных слов! Вообще нецензурная лексика – это молитва дьяволу. Ни за что душу свою продаем.
Эти слова заставили многих подумать, что Николай Григорьевич – это бывший студент-гуманитарий. Скорее всего недоучившийся по причине невоздержанности своего организма. Давным-давно его нужно было бы забрать назад в Академгородок. Кто знает, какой самородок потеряла наука в его лице. Ломоносов тоже был невоздержанный.
— Полетел за сваркой, — сказал бригадир. – А ты не сиди сложа руки. Техничь! Займись чем-нибудь! Ребята! Шли бы на свои места! Под лежачий камушек, сами знаете…сейчас драндулет буду заводить. Присутствие посторонних нежелательно, особенно женского пола.
С полчаса над просторами картофельного поля раздавалась ненормативная лексика. В прочем, ребята уже привыкли к этому, как привыкают к щебетанию птиц в саду. Под нее копалось быстрее, почему-то. У кого-то даже открывалось второе дыхание.
На третий день отремонтировали комбайн. Все эти дни первокурсники наслаждались выразительными возможностями русского языка. Всего из трех слов – и столько производных!
Бригадир сказал, что нужно пять девушек на комбайн, серьезных и трудоспособных.
— Не жирно будет, на одного пять девушек?
— Работа ответственная и напряженная. Пять — это даже минимум, — разъяснял бригадир.
Комбайн затарахтел в далеком конце поля. Все вздохнули с облегчением. Наконец-то их страдания закончились. Рабочий день заканчивался, а он оставался почти на том же самом месте. Ребята списали это на обман зрения и дальнюю перспективу.
Заметно прибавилось оптимизма. Вечером вернулась пятерка девушек и на расспросы рассказали, что они сидели на комбайне и сортировали картошку, отбрасывали порезанную, гнилую, старую, мелку. Комки земли. Картошка ползет по ленте. Вот и сиди, и сортируй. Одной делать нечего. Непонятно, зачем их послали впятером. Зато хорошо отдохнули. Потряхивает, правда, немного. Но к этому быстро привыкаешь. Комбайн то и дело останавливался. То одно не так, то другое не так. Но дядя Коля не матерился, только бормотал что-то невнятное и сильно бил молотком. Еще дядя Коля сказал, что после него, то есть комбайна, нужно будет еще пройтись по полю, потому что после него, то есть комбайна, половина картошки остается в земле. Уж как только не регулировали его, то есть комбайн, он собака дранная, всё равно половину картошки оставляет в земле.
За неделю комбайн прошел делянку, которую три копщика выкапывали за день. Теперь его гул только раздражал. Сначала шутили над этой чудо-техникой, потом и шутить надоело. К концу первой недели комбайн сломался в очередной раз. На этот раз было что-то серьезное. «Белорус» отволок его в РТМ, где, как сказал бригадир, из дерьма делают конфетку. Ребята там головастые, пока не запьют. Тогда лучше их не беспокоить.
Больше комбайна не видели. Но пятерка радовалась:
— Ой, как мы отдохнули, девочки! Никогда столько в жизни не болтали! Все узнали друг о друге.
Математики в глазах других людей представляются безумцами. На самом деле это не так! Совсем не так! Далеко не так! За исключением тех моментов, когда они занимаются решением уравнений. Правда, в основном они этим и заняты. Говорят, что даже и сны им снятся какие-то особенные.
Это жизнерадостные люди, которым ничто человеческое не чуждо. Порой даже слишком не чуждо.
Математики жили в одном бараке с гуманитариями. За перегородкой. Каждое утро у них начиналось с громкого зевания. Причем старались они это делать одновременно. Кто-нибудь непременно шутил. Каждая шутка сопровождалась гомерическим хохотом. Такое впечатление, что за перегородкой жили не люди, а циклопы. Потом тонкий, как у Джанни Родари голосок затягивал (надо сказать очень артистично):
Встал я утром в шесть часов.
Где резинка от трусов?
Потом наступала мертвая тишина. Гуманитарии вжимались в кровати, некоторые укрывались с головой.
Вот она! Вот она!
На кое-чем намотана.
Две эти строчки пелись хором. Такое впечатление, что за перегородкой ансамбль Александрова. Вместо «кое-чем» они без всякого стеснения употребляли нужное слово. Припев был настолько громким, что его слышал весь лагерь. Тут же на половину математиков заскакивали сразу два командира. После припева у всех улетучивались остатки сна. Командиры грозились всеми мыслимыми и немыслимыми карами, если подобное еще повторится. Математики клялись и божились, что отныне они ниже воды, тише травы. И даже зевать будут шепотом, закрывая рот ладошками.
Боевая русская частушка в исполнении трех десятков луженых глоток лучше всякого сигнала служила к пробуждению всего лагеря.
И так повторялось каждое утро. И каждое утро математики обещали, что это больше не повторится.
Утро встречало не только прохладой, пробуждением юношеского оптимизма, но и кашей размазней в длинном бараке, именуемом столовой. Барак был побелен. И поэтому с жилыми бараками его никак не перепутаешь. На десерт был слегка подкрашенный и слегка подслащенный чай. Сразу стали шутить на счет плохо запаренной половой тряпки. И всем стало понятно, что если они так будут работать, а кормить их будут вот так, то долго они не протянут.
После завтрака строились колонной и пять километров шли до картофельного поля по грунтовой проселочной дороге. Не хватало только солдат с овчарками по обе стороны от колонны.
На поле шли с песнями. Потом репертуар закончился. И дальше шли молча. Кто-то стонал. Кто-то обдумывал философский вопрос о смысле жизни. К колхозному полю подошли через час. Многие попадали на траву и вытянули ноги, обреченно улыбаясь.
Оказалось, что нет ни лопат, ни ведер. Полковник стал отчитывать бригадира.
Бригадир втянул голову в плечи, но все же ответил с достоинством.
— Не оставлять же инвентарь в чистом поле. Это же не город. У деревенских всё для хозяйства годится. А лопаты вообще на вес золота. Лопата и топор – это главные жизненные ценности для деревенского жителя. Не считая, конечно, водки. Про водку это шутка. Неудачная! Признаюсь. К тому же у нас есть и непьющие.
— Но разве нельзя было завезти с утра. Время-то уже сколько!
— Нельзя. Утром планерка. Пока планерка не закончится, работа в колхозе не начинается.
— Ну, и что делают мужики, пока идет планерка?
— Ну, пока идет планерка, сидят на крыльце, курят.
— И доярки курят?
— И не только курят, товарищ полковник!
Бригадир подмигнул. Полковник поднес кулак к лицу и деликатно кашлянул. Иногда кашель выразительней слов.
— Чтобы через пятнадцать минут лопата были здесь! – отдал он приказ. – Иначе кому-то будет плохо.
— Обед чтобы мне был вовремя! – приказал полковник.
— Будет! – кивнул бригадир. – Столовая уже получила задание. Кстати, бычка прирезали по такому случаю.
Первое время по вечерам писали письма на родину. Уверяли родителей, что здесь кормят как на убой. Но хочется чего-нибудь домашнего, потому что лучше мамы никто не состряпает и не испечет.
По вечерам возле ворот лагеря собиралась парни из деревни. Все были пьяными. Кто-то меньше, кто-то больше. Со знакомством как-то у них дело не завязывалось. И вскоре они перестали ходить.
Через пару дней нашлись смельчаки, которые решили посмотреть, что же у них за фронт работы. Про них уже забыли, когда они вернулись. Упали и вытянули ноги.
— Вы где были-то? – спросили их.
Исследователи тоже удивились.
— Так вы же сами сказали, чтобы мы посмотрели, где конец поля.
— А! А когда это было?
— Так сегодня. Утром, когда пришли.
— Так за это время можно дойти до Новосибирска и назад вернуться.
— Шутить изволите. А вон Костик мозоли натер.
Всем стало очень скучно. Всякие надежды на блицкриг и досрочное возвращение домой рухнули. Некоторые уже начинали думать, что они никогда отсюда не уедут.
Но не тот возраст, чтобы предаваться пессимизму и отчаянию. Если вы думаете, что над колхозным полем стоял вопль, стон и плач, то заблуждаетесь. Если и плакали, то когда прищемят палец на ноге. И то девчонки. Нет и нет! Обширное пространство было наполнено радостными криками, визгом и смехом. Даже к трудностям относились с чувством юмора, как к должному, даже необходимому, такому, без чего было бы скучно. И не о чем было бы вспомнить в старости.
С командиром гуманитариям повезло. Он сразу понравился всем. Еще там, когда они стояли перед главным корпусом университета и ждали последнего гудка к отправлению. Брюнет, на котором прекрасно сидела стройотрядовская форма, как будто он родился в ней. Аккуратный, стройны, улыбчивый и какой-то чистый, как утренняя роса. Большие глаза, аккуратно подстриженная бородка, небольшие бакенбарды. Был красив как бог. Все девчонки влюбились в него и постоянно пялились. Никогда его не видели сердитым и злым. Он, наверно, и не умел сердиться. Улыбка не сходила с его лица. А когда он смеялся, то и глаза его тоже смеялись. Верный признак искреннего доброго человека, который никогда не держит камень под одеждой. Он не повышал голоса. Не то, что человека, но и букашку не смог бы обидеть. Когда они стояли перед университетом, он вежливо попросил сойти с газона, потому что траве же больно.
Изумительный рассказчик. Его можно было слушать часами, раскрыв рот. И верилось беспрекословно в то, что он рассказывал. Какая-то кладезь необычных историй. Ходячая «Тысяча и одна ночь». Не верилось, что в таком возрасте он уже успел столько увидеть.
Рассказывал, как геологи видели снежного человека. Не совсем человека, но его следы вокруг палатки. О том, как работал в колонии для малолетних преступников. Вел уроки. И какие невероятные типы там попадались. И это перевернуло его взгляды на преступников. Как куролесил Хрущев, когда приезжал в Новосибирск и вводил в ступор местное руководство своими необычным прожектами. Разные забавные истории, которых нигде не прочитаешь. И даже трудно поверить, что такое могло случиться. Пока было тепло, они собирались за территорией лагеря, разводили костер, пекли картошку в углях и кипятили чай в черном котелке.
Когда холодно и дождливо, они до самого отбоя сидели в бараке. Телевизора не было. Саша сидел у ребят. Девчонки завидовали. Они тоже хотели его видеть и слушать. Саша никогда не огорчался, не унывал. Когда он говорил, то каждому казалось, что он говорит именно для него. И каждый старался не пропустить ни единого его слова. Достаточно было увидеть его глаза, чтобы полюбить его, идти за ним куда угодно.
Как-то к каждому он умел найти ключ, задеть за самое живое, заинтересовать. И если ему что-то нужно, то ему даже не приходилось уговаривать. Никто ему не мог отказать, о чем бы он ни попросил. Он никогда не приказывал, не командовал, не повышал голоса. В середине сентября позвонили, что с его отцом плохо. Он уехал, даже не попрощавшись, потому что был день, и все были на картофельном поле. На его место приехал другой аспирант. Звали его Женя, но к нему сразу прилипло прозвище Жеха. Причем выговаривали это прозвище с презрительной гримасой. Вечно озабоченный, он легко раздражался, начинал кричать, причем даже не кричал, а визжал по-бабски, брызжа слюной. Смотреть на него было забавно и противно. Постоянно ругался со студентами, с поварами, со сторожем. И настроил всех против себя. Бегал жаловаться к полковнику. Тот сначала слушал его, но ничего не предпринимал.
— Ты говоришь, они тебе сказали…
— Ну…
Жеха замялся. Ему не хотелось повторять эти обидные для него слова. Тем более, что полковник был его старше в два раза.
— Ну, сказали, чтобы я пошел…
— Куда пошел? Что ты молчишь? Куда, они тебе сказали, чтобы ты пошел? В столовую? Или куда?
— Пошел, сказали, ты на…
Жеха мучился, но никак не мог произнести эти слов.
— Пошел на… Это куда пошел? – переспросил полковник.
Он был само спокойствие. Как иезуит, который допрашивал очередного обвиняемого.
— Вы сами понимаете, куда.
— Нет! Не понимаю. Я привык к ясной четкой речи. И не намерен понимать намеков.
Полковник оставался серьезным. И Жеха гадал, действительно, полковник не понимает или разыгрывает его. От этого зависело, какую линию поведения он должен выбрать.
— На орган.
— Какой еще орган. Органы бывают всякие. Есть такие органы, с которыми лучше не связываться.
— На этот самый…
— Какой еще этот самый?
— Ну, на мужской. Так и сказали открытым текстом, во всеуслышание. Громко сказали.
— Они сказали: пошел ты на мужской орган. Я правильно понял? Или как-то иначе? На какой конкретно орган? У мужчины разные органы. Почки, печень, желудок, руки, ноги. Может быть, они тебе сказали: пошел ты на сердце или на селезенку? Они не уточнили?
— Уточнили.
— Замечательно! Так на какой уточненный орган они сказали, чтобы ты пошел? Я вроде бы названия всех органов знаю.
— На мужской орган. Половой.
— То есть они тебе сказали, чтобы ты шел на мужской половой орган. Я правильно передаю их слова?
— Да.
Или Жеха был крайне туп или решил продолжить игру полковника. Хотя вряд ли ему было до игры.
— Они назвали это короче.
— В смысле? Объясни, что означают твои слова «короче»? Пропустили некоторые слоги?
-Тремя буквами.
— Вообще-то буквы пишут, а произносят звуки. Я это еще со школьной парты усвоил. Это к сведению твоему, как будущего доктора исторических наук. Диссертация пишется буквами. А защищать ее ты будешь звуками. Какие это были три звука? Или, как ты называешь, три буквы. Что безграмотно и для будущего доктора исторических наук непростительно.
— Товарищ полковник! Вы что смеетесь надо мной? Вы же прекрасно понимаете!
— Я разве смеюсь? Ты ко мне пришел с жалобой на студентов. Так? Так. Я должен вникнуть. Пытаюсь разобраться, установить их вину, после чего принять решение. Ты не клевещешь на них? Так какие буквы? Тьфу ты! Звуки? Какие это три звука?
— Ха.
— Ха-ха! Дальше!
— У и и краткое. Вот такие три буквы. Прошу прощения, три звука, которые произнес студент.
— Так и сказали «и краткое»?
— Товарищ полковник! Я же серьезно. А вы смеетесь. А дело-то серьезное. Нецензурная брань.
— Я скажу тебе тоже серьезно, Евгений Александрович. Положение заставляет говорить серьезно. Когда тебя посылают, то значит, что ты заслужил этого. Вот и задумайся! Ты поставь себя так, чтобы тебя уважали, на посылали на три буквы. Тьфу ты!
— Товарищ полковник!
— Вот! Задумайся на досуге, почему тебя посылают. Никого не посылают, а тебя посылают. А что? Слово-то хорошее. Емкое и звучное. Его надо заслужить. И ты его заслужил.
Жеха больше не жаловался полковнику. Но злиться стал еще больше. Порой он так визжал, что боялись сейчас его кондрашка хватит. Это они, студенты виноваты во всех неприятностях, которые с ним происходят. Они спят и видят, как насолить ему. Мир был бы прекрасен, если бы в нем не было их, студентов. Или были бы другие студенты.
Это было потом, а пока студенты наслаждались Сашиным обществом, его рассказами, которые у него не кончались. И каждый раз что-то новое и очень интересное. Любимым его персонажем в русской истории был Плеханов. Что в общем-то тоже удивительно. Фигура двойственная для советской историографии. С одной стороны, первый русский марксист, который создал первую марксистскую организацию, которого Ленин считал своим учителем и перед которым преклонялся в молодости. Как интеллектуалом и теоретиком. С другой стороны, лидер меньшевиков. Осудил большевистский переворот и не принял ленинскую программу. Саша знал о Плеханове больше, чем сам Георгий Валентинович знал о себе. По крайней мере, складывалось такое впечатление, когда он начинал рассказывать о нем.
Он подробно описывал, как он одевался, какие блюда любил, а какие нет, что он сказал такого-то числа, такого-то года, как он смеялся и что вызывало у него слезы. Его кандидатская о Плеханове стало непроходной. Дважды он пытался защититься. Неизвестно сумел ли он ее защитить или нет. Дальше его следы как-то таинственно затерялись. Не помнится, чтобы в советские времена была бы напечатана работа о Плеханове, в которой бы Плеханов был представлен так привлекательно, как в Сашиных рассказах.
Саша был прекрасным психологом, он мог разговорить любого, понять, чем живет тот или иной человек. И войти к нему в полное доверие. Даже девушки делились с
Через несколько дней после начала картофельной строды он подошел к Толе. Толя сидел под грибком с книгой. Поболтали о том, о сем.
— Толя! Ты слышал о сортировке? – неожиданно спросил Саша. – Это туда сначала везут картошку с поля.
О загадочной сортировке Толя слышал. Но еще ни один студент не видел ее и не знал, где она находится. Что это такое, он не имел понятия. Понятно одно, что там сортируют как-то картошку.
— Работает там местный мужик. Работы не так, чтобы много. Один со всем этим хозяйством управляется. Пыльная, правда. Но дело не в этом. Ответственность должна быть. Все-таки кругом механизмы, моторы. Любая поломка, и всё остановится. От одного человека зависит уборка картофеля. Понимаешь? А вот мужик не совсем понимает. Бухает. Порой машина придет, он же лыка не вяжет или спит. Тут недолго и до трагедии. По пьяной лавочке может руку или ногу потерять. А то и головы лишиться. Порой вообще становится невменяемым. С ним говорят, а он ничего не понимает. Председатель колхоза попросил, чтобы мы подыскали какого-нибудь ответственного человека. И еще. Там целыми днями, считай, один. Шофер приехал, выгрузил или загрузился и уехал.
— Даже кого посоветовать вам не знаю, — сказал Толя. – А почему вы ко мне обратились?
— Думаю, что ты справишься.
— Я? – Толя удивился. – Тут технаря надо. Сами же сказали, механизмы, моторы. А я с техникой увы.
— Какая там техника? Включил – выключил. – Другое дело, что один. Целыми днями. Не всякий это выдержит. Убежит. А ты любишь одиночество, что-то вот постоянно пишешь. И не очень общительный. Тебя даже считают замкнутым. Себе на уме. У тебя будет много свободного времени.
— Я даже не знаю, смогу ли я. Как-то это всё неожиданно. Совершенно незнакомая работа.
— Сможешь, Толя. Значит, утром тебя первая машина забирает. А вечером последняя машина привозит в лагерь. Обед будут привозить. В термосе. Как механизаторам. Вставать придется пораньше на полчаса. Ты, я знаю, не засоня. Легко встаешь. Тебя проинструктируют, покажут, что и как. Ничего там сложного нет.
Саша пожал ему руку и пошел. Так Толя оказался на сортировке, где он проработает до конца сентября.
Сортировка была не в деревне, а в чистом поле на краю оврага, который почистили и сделали туда дорогу. Машины высыпали картошку. Она поступала на сортировочные механизмы. Это были такие транспортеры, которые вибрировали, отсеивая пыль и мелочь. Мелкая сыпалась в один бункер, крупная в другой. Такие два потока. Бункер наполнялся. Машина внизу забирала картошку из бункеров и везла в деревню. Мелкую на свиноферму, крупную в овощехранилище. А оттуда уже в Новосибирск. Работа заключалась в том, чтобы включать механизмы и выключать. А на ночь вырубать рубильник. Оставалась только гореть дежурная лампочка. Еще выгребать из-под транспортеров пыль. Три механизма работали редко, чаще два, но обычно один. Это был левый, если стоять к оврагу. Он был поновее.
До обеда делать нечего. Толя подметал площадку, наводил порядок в сторожке. Потом был предоставлен самому себе. Читал, писал стихи и смешные рассказы. Только к обеду начинали подходить машины. Обед ему привозили из колхозной столовой. Работа начиналась после обеда. Последняя машина отвозила его в лагерь. Товарищи по бараку удивлялись: как он согласился на такую работу. Целый день одному! Если шел дождь, то никакой работы. Он предавался любимым занятиям. Свободного времени было предостаточно. Общая тетрадь быстро наполнялась. Толя постоянно что-то писал. И Саша не мог не заметить этого. Деликатно расспрашивал. Предложил ему делать газету и вести летопись. Даже выделил под нее чистую тетрадь. С газетой Толя работал еще со школы. Уже в начальных классах его назначили редактором. Он сам писал и рисовал. Каждую неделю новая газета.
Газету приходили читать со всей школы. И ученики, и учителя. Брали материал в общешкольную газету. Когда было родительское собрание, читали и родители. Некоторые открывали для себя что-то новое о своих детях. Не всегда приятное. И огорчались. Писал и рисовал все десять лет. Занятие это ему нравилось. Поэтому он сразу согласился на Сашино предложение. В лагере появилась своя стенгазета. Когда она только появлялась, к ней было невозможно подойти. Приходилось ждать, когда передние прочитают и отойдут. Конечно, на первом месте про картофельные дела. Много юмора и стихов. Дружеские и не очень дружеские шаржи и карикатуры.
Через две недели сделали душ с горячей водой. Отряды мылись по определенным дням. Толя написал про это.
О! душ! Вода горячая
Бежит по грязной коже.
От радости заплачу я.
Как хорошо, о! боже!
Намылил мылом голову.
Надраил спину друг.
Свою фигуру голую
Я сладострастно тру.
Хоть душ в анфас и профиль –
Сарай, простой сарай.
Но на страде картофельной
Это просто рай.
Воспет пусть будет хором
Средь разных поколений
Тот человек, который
Придумал душ. Он гений!
Он еще будет вести летопись и после того, как вернутся с картошки. Но поймет, что это уже совсем не то.
Тетрадка будет ходить по рукам, пока окончательно не потеряется. Еще какое-то время у Толи просили летопись почитать.
С машиной приехал Петров. От шоферов он узнал, что сторож на сортировке выращивает коноплю. Петров не был наркоманом, но ни от одного удовольствия не отказывался. Действительно, возле сортировки несколько квадратов было засеяно коноплей. Сейчас это было чем-то вроде мини-джунглей. Темных и непроходимых. Для всех. Кроме Петрова.
— Вот это жизнь! – восхитился Петров. – Надо переквалифироваться в сторожа! Я уже свое откопал.
Петров заглянул в сторожку.
— Тебе бы надо сюда еще деревенскую помощницу. Вот такую!
Петров вытянул руки перед собой.
— Зачем? – удивился Толя. – Я вроде пока и без помощников справляюсь. Как-нибудь обойдусь.
— Тебя она будет молоком кормить. Парным.
Петров выдернул несколько кустиков конопли и уехал. Видно, полковника в этот день не было на поле.
В середине сентября у Зины Овчинниковой был день рождения. Восемнадцать лет. Зина такая пухленькая девушка с веснушчатым лицом. Симпатичная и общительная. Из дома пришла посылка со сладким. На дне лежал конвертик с денежкой. Конвертик больше всего и обрадовал Зину. Она решила отметить совершеннолетие. Пошла к ребятам. Надо бы как-то организовать. Вы покумекайте, мальчики!
Деревня в километрах пяти от лагеря. Не так-то и далеко. Два часа на всё про вся. Но два часа – не пять минут. И твое отсутствие обязательно заметят. У каждой микрогруппы своя деляна. Никак не уйдешь. А вот Толя до обеда свободен. И контроля за ним никакого. Сам себе хозяин и господин. Никто за ним не смотрит. Да и от сортировки до деревни поближе. Всего километра три будет. За час все обделает.
Зинины деньги были переданы ему, а также то, что сами собрали. Набралась приличная сумма. Вина девочкам, водки мальчикам, конфетки, печенье, пряники, закусон, то сё. Сигареты, само собой. Даже составили список, чтобы Толя ничего не забыл.
С утра Толя подмел площадку и отправился в деревню. Пока дойдет, как раз и магазин откроется.
Маячит «бобик». Такой был только у полковника и председателя колхоза. Встреча ни с тем, ни с другим не входила в Толины планы. Покинул боевой пост. Конечно, машин до обеда не будет. Но сортировка осталась без присмотра. Мало ли что? Ребятишки деревенские забредут. Что-нибудь сломают или покалечатся сами. Там же столько оборудования!
Голова выглядывала из открытого окна. Видно им тоже хотелось насладиться благостным утром. Но фуражки на голове не было. Или это председатель или полковник снял фуражку. Спрятаться не оставалось времени. Его уже заметили. Будет суетиться, только хуже сделает.
В окно выглянул полковник Иванов. Только этого и не хватало!
— Кто такой? Куда? Зачем?
Толя доложился. Конечно, ни слова про день рождения и наказ, с которым он шел в деревню.
— Залазь!
— Спасибо! Товарищ полковник! Но я люблю пешком. Пробегусь, отдохну. Опять пробегусь.
— Дело хозяйское!
В магазине на него поглядели с удивлением. Все забыли, зачем они пришли сюда. Хотели пропустить вне очереди. Но Толя замахал руками. Не инвалид же он, в конце концов!
— Я как все!
Он подошел к шкафу с книгами. Дверки у шкафа не было. На верхней полке решения съездов. Чуть не присел. Ну, Пушкин и Гоголь ладно. хотя тоже не везде достанешь.
Такие книги! Попробуй их достать в магазине в городе! В библиотеке и то не всегда бывают. Генрих Манн, Сенкевич, Ремарк, Хемингуэй, Шукшин, Анна Ахматова, Есенин….
— Это что? – спросил он. – Продается?
Продавщица сморщила лицо, как будто во рту у нее был кислый лимон. И посмотрела со злостью на книжный шкаф.
— Кого там продаются? Даром никто не возьмет. Вот если бы о любви были книжки!
Толя рассказал о книгах. И в дождливый день девчонки рванули в Морозовку. Над собой держали плащ. Шкаф опустел. А продавщица испытала чувство глубокого удовлетворения. Она уже не надеялась, что кто-нибудь когда-нибудь купит это барахло.
На оставшиеся деньги он купил несколько бутылок лимонада «Буратино. С маленькой этикетки весело улыбался деревянный герой.
Бутылки весело звенели. Бабушки останавливались и долго смотрели ему вслед, как будто мимо них прошел африканский слон, которому совсем не место в сибирской деревне. Или по меньшей мере динозавр, о котором много слышали, но увидели впервые.
Все безошибочно в нем сразу определяют горожанина. Девчонки смотрят как на потенциального жениха. Какая деревенская девчонка не мечтает жить в городе! Единственный путь – иметь мужа горожанина. В городе нет коров, свиней, вечной прополки огорода и «по деревне ходит парень», который всегда пьяный и сразу лезет в разрез платья, чтобы мять груди, как будто это медицинские груши. Город – это сказка!
Девчонки фыркали, некоторые прижимали ладони ко рту, как будто боялись что-то сказать. Толя не понимал, чем вызван такой интерес к его персоне. Свою внешность он считал самой заурядной. И одевался довольно скромно, так что особой популярностью среди слабого пола не пользовался. Глянул вниз. Ширинка застегнута.
В конце концов, на дворе седьмое десятилетие. Как-то мать рассказывала, как Феню, ее тетку, впервые привезли в Барнаул. Фене уже было за двадцать, но в город она попала впервые.
Они шли от вокзала к дому. Фенечка останавливалась через шаг, кланялась и здоровалась:
— Здорово были!
И так всю дорогу. А прохожих, как на зло, становилось все больше и больше. Фенечка только успевала крутиться из стороны в сторону.
— Здорово были! Здорово были! Здорово были!
Фенечка несла огромный узел, в котором был собран весь ее гардероб, который достался ей от бабушки и прабабушки. А тетка волокла фанерный чемодан, окрашенный в светло-коричневую краску и для надежности перехваченный веревкой.
Цвет чемодана отталкивал прохожих, у которых возникали не очень приятные ассоциации.
Тетка говорит ей:
— Феня! В городе не здороваются со всеми подряд. Ведь ты же не знаешь этих людей.
Фенечка остановилась. Тетка напугалась. подумала, что у нее столбняк. У Фенечки то есть. Огромный узел выпал из Феничкиных рук. Она этого даже не заметила.
— Не здороваться? Разве так можно?
— Ну, Фенечка, понимаешь… Это в деревне все знают друг друга. Здороваются с тем, кого ты знаешь. А тут с каждым будешь здороваться, так язык отвалятся.
— А у нас, тетя, в деревне со всеми здороваются. Хоть знакомый, хоть незнакомый. Как же так не здороваться?
Феня отвыкла от этой привычки не сразу. Пошли в магазин выбирать ей платье, чтобы она не выглядела совершенной чумичкой.
Хотя и не со всеми, но через одного, Фенечка продолжала здороваться. Никак не могла отвыкнуть. С продавцами так уж непременно. Тетя ненадолго отлучилась в сторону и потеряла Фенечку из виду. Хотя боялась это делать. Фенечка легко могла потеряться. Слышит за спиной смех. Это Фенечка стоит перед манекеном, кланяется и бубонит:
— Здорово были!
Люди смеются. Всем интересно посмотреть на деревенскую простушку. Хотя некоторые и сами когда-то были такими же.
Толя вспомнил этот рассказ матери. Но сейчас уже полностью произошла смычка деревни с городом. И отличить деревенского от городского почти невозможно. Одеваются одинаково. Так же говорят. И в клубе танцуют на дискотеках под тот же шлягер «Шизгарез! Чо он не встает».
Толя обернулся. По дороге пылил «бобик». Из сумки выглядывали пробки бутылок. Да и по очертаниям сумки можно было догадаться, что там. От сумки нужно было избавиться. Начальство могло и не поверить, что всё это бутылки с «Буратино» и пожелать убедиться. В лагере был сухой закон. А тем более на сортировке. Возле обочины были кусты, куда Толя и поставил сумку. Отошел и убедился, что ее не видно с дороги.
Это снова был полковник. Встретить дважды полковника на одной и той же дороге – это к удаче или к несчастью?
— Залазь! – приказал полковник. — Или не находился еще? Ноги-то не казенные? Так?
Откажешься – вызовешь подозрение. Тем более это была не просьба, а приказ. Толя забрался. Толю мучило то, что он плохо спрятал сумку. А если кто-то пойдет этой дорогой? Заметит сумку, а там такое. Конечно, заберет и будет уверен, что ему сказочно повезло. Что же весь день такая невезуха?
— Нравится на сортировке? – спросил полковник. – Командир отряда хвалил тебя. Говорит, ответственный юноша.
— Ага!
— Филолог?
Полковник вполоборота. Оглядел его. Взгляд его был строгий и в то же время по-отечески добрый.
— У математиков глаза наглые. Историки же глядят так, как будто ты им должен сто рублей. Про ботаников и говорить не буду. Ботаник, он и в Морозовке ботаник. Не уважаю! Хотя и филологи…
Полковник замолчал. Толя понял, что и филологов он не считает полноценными людьми. Действительно, как можно изучать всякие стишки да сказки, когда есть боевое оружие.
Его высадили. Когда «бобик» исчез за горизонтом, Толя отправился за сумкой. Трижды уж точно снаряд в одну и ту же воронку не попадет. А полковник, наверно, на картошку. Всё обошлось. Ни одной машины больше ему не попалось. И сумка стояла на месте.
Вечером приехал Петров, нарвал конопли и забрал сумку. Но перед этим обследовал ее содержимое.
— Поздно ведь приезжаешь. А девчонкам надо приготовить стол, — сказал Петров. – А потом еще губки накрасить. А вдруг ты выпьешь спиртное? Работа у тебя располагает к этому.
Говорил он серьезно или шутил, понять было невозможно.
Вечером жгли костер, пили чай с конфетами и пряниками. Чай был индийский. Удивлялись, что водка была по два восемьдесят семь. В городе она уже исчезла как года три. А не смену в рамках борьбы за трезвость ей пришла за три шестьдесят два.
Искры летели в небо. Некоторые стреляли и рассыпались, как фейерверк. Настроение было праздничное. Спиртного досталось по пару глотков. Поэтому пьяных не было. Кроме Петрова, который весь вечер дымил самокрутками и жмурился как кот. Шутил на этот раз неудачно.
— Ну, Зинаида! Теперь ты совершеннолетняя! – громогласно возопил он, встав у костра. – Если что, то меня уже не посадят.
Никто не засмеялся. Девчонки фыркнули. А ребята отвернулись, как будто ничего не слышали. Петрова это не огорчило.
Повезло Толе или не повезло – это вопрос. Некоторые смотрели на него как на страстотерпца. День за днем быть одному. После обеда бывало машины шли одна за другой, как будто их прорвало. И тогда Толе приходилось крутиться, не покладая лап. Он носился от одного транспортера к другому. Включал, выключал, выгребал пыль. Не успеешь, проворонишь, и транспортер может остановиться, а то и вообще сломаться. Уборка остановится. И он будет виноват в этом. После таких напряженных дней у него болели руки и спина. Хотелось одного – лежать и ничего не делать.
Однажды он решил попросить себе помощника. Но отказался от этой затеи. Тем более, что были «окна», когда работы было мало или вообще он ничего не делал. Ни единой машины. Помощник мог оказаться и нормальным пацаном, а мог и какой-нибудь болтун, у которого рот не закрывается ни на минуту. А то вообще сачок, который будет отлеживаться в сторожке. А то начнет любопытствовать: «А чего ты там пишешь? А дай-ка почитать?» Толя очень редко показывал другим то, что он пишет.
Настоящим блатным местом в лагере была столовая. С первого дня предложили три места. Девчонкам приходилось крутиться целыми днями: чистить картошку, морковку, крошить капусту, делать салаты, варить, жарить, парить, мыть посуду, драить полы и котлы.
Каждый вечер они жарили для себя картошку на сале, которое поставлял им Иван Васильевич. Для остальных, конечно, никто картошку жарить не будет. Это сколько работы, сколько жиров переведешь. Поэтому в основном толченная, иногда цельная с хвостом селедки. Вечером наша троица возвращалась в корпус сытая и довольная. Кто-то икал обязательно и потирал пузо. Потом они начинали рассказывать, какими деликатесами пользовались сегодня.
Им в помощники взяли одного парня. Валеру. На его лице постоянная плутоватая улыбка. В помощники ему определили Гончарова и Боянова. Чем они занимались, непонятно. Хотя видели, что они выносили помои, таскали воду, кололи дрова. На кухне, кроме электропечи, была дровяная печь. Сторожка тоже топилась дровами.
Каждый вечер они готовили для себя фирменное блюдо – жареную картошку. За общим столом они не ели.
— Мда! Милостивые господа! Сегодня у нас была на ужин жареная картошечка с соленными груздочками.
Все давятся слюной.
— Ну, и по три котлетки на брата. Такой расклад. Теперь требуется всё это переварить. Сами понимаете, нагрузка на желудок. Но желудок тоже требует тренировки.
Но столовским приходилось вставать раньше всех. Когда все поднимались, их уже в корпусе не было. Кухня начинала работать еще затемно, когда лагерь видел сны.
В свободное от работы время столовские тусовались в сторожке у сторожа Василия Ивановича, где они потчевались жареной картошкой. И не только. Стол их нельзя было назвать царским. Но всё же он разительно отличался от того, что подавали всем.
Василий Иванович приобщил нашу троицу к национальному напитку, объему производства которого могла бы позавидовать вся винно-водочная промышленность. Бражка, несмотря на ее мутный цвет, который никак не настраивал на романтическое настроение, им понравилась. И потом они будут считать, что ничего лучшего они не пили в своей жизни. Когда бражка была прохладной, то чем-то напоминала шампанское, если пить ее с закрытыми глазами и зажать нос. Она также пузырилась, шибала в нос и была сладкой. Производство бражки пришлось увеличить. Причем это увеличение продолжалось на протяжении всей картофельной страды. В сторожке и вокруг ее не исчезал запах сладкого и печального, как осенняя пора, очей очарованье. Так пахнет ностальгия и прошедшая любовь. Женщины из столовой обходили сторожку стороной, особенно, когда оттуда доносились народные песни и песни советских композиторов.
Или запах будил в них воспоминания о сладких грехах молодости, о которых осталось только вспоминать. Хотя… вряд ли какая-женщина теряет надежду и может поверить, что всё для нее уже потеряно.
Вечерело все раньше и раньше. А хоровое пение, доносившееся со сторожки, становилось всё громче. Полковник ночевал у себя дома в городке. Так что бояться было некого. У Василия Ивановича был писклявый голосок, чего не скажешь о молодых певцах, которые незнание слов русских народных песен заменяли громким воем.
Тянули, кто в лес, кто по дрова. Но ежевечернее пение давало свои плоды. Всё больше и больше им удавалось попадать в такт. И кто знает, если бы уроки хорового пения продолжались и дальше, то, может быть, вместе с хорошими историками страна получило бы и неплохих певцов. К тому же, они не только пели, но и время от времени пускались в пляс, учились у Василия Ивановича делать притопы-прихлопы и выделывать коленца.
Василий Иванович не курил. Но употреблял нюхательный табак. То есть нюхал. У него была жестяная круглая баночка из-под леденцов, куда он засыпал порошок из кисета. Подцеплял корявым ногтем крышку, открывал ее, брал щепотку табака, подносил к одной ноздре, шумно втягивал, потом к другой. После чего с удовольствием кряхтел. Откидывался на спинку стула и закатывал глаза долу.
Сначала это священнодействие вызывало у нашей троицы изумление. В конце концов, нюхательный табак – это же не наркотик.
Гончаров спросил:
— Василий Иванович! А зачем вы это делаете? Я вот никак не могу понять. Никогда такого не видел. Табак зачем вы нюхаете?
— А чего? Ну, нюхаю и нюхаю. Уже полвека как нюхаю. У нас в деревне раньше многие нюхали.
— Какая-то польза от этого есть? Может быть, обоняние улучшается? Или еще что?
Василий Иванович задумался. Потом спросил.
— Кого улучшается? Я не понял, про кого ты спросил-то, сынок. Кого улучшается? Ты поясни!
— Обоняние!
— А это чего? Это когда лучше встает? Так у меня машинка и так работает. Бабка не жалуется.
Студентам стало понятно, что в русском языке есть избыточная лексика. Многие слова нужно отправлять в архив. Сказали бы просто «нюх», и никаких недоразумений.
Денег студентам не платили. Но всем капала стипендия. И когда они вернутся домой, стипендия у них в кармане. Зарплатауполучал обслуживающий персонал: сторож, повара, командиры отрядов и, разумеется, полковник. Колхозники тоже получали зарплату. Но когда бригадира спрашивали, сколько он получает, он только тяжело вздыхал и отворачивался. Это было уже во второй половине сентября. На разводе полковник торжественно объявил, что те, кто хорошо работает, то есть ударники труда, теперь будут вознаграждаться. Ибо любой ударный труд должен быть соответствующим образом вознагражден.
Он не сказал, как именно, а спросить об этом никто не решился. От греха подальше. Начали гадать. Большинство считали, что выдадут денежную премию. Небольшую, конечно. Но всё равно приятно. Всё равно лучше, чем ничего. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Другие, их было меньшинство, уверяли, что дадут увольнительную. На два – три дня. Или отпустят пораньше на те же два – три дня.
Третьи (их совсем было мало) говорили, что ударников труда одним из субботних вечеров свозят в Морозовку на дискотеку. Так сказать, дадут путевку на культурное мероприятие. А может быть, даже свозят в колхозную баню. Это вообще было на грани фантастики. До сих пор бытовало убеждение, что в деревенских банях мужчины и женщины парятся вместе.
У математиков завелся поэт. Чему их соседи за стенкой не удивились, вспомнив болдинскую очень, когда вдохновение так и накатывает мощными валами, увлекая всех за собой.
До Пушкина ему было как до луны пешком, но всё-таки не про резинку от трусов, которая даже самим математиком надоела до невозможности – тоже люди и хотят чего-нибудь свежего. По утрам тот же голос, как и у Робертино Лоретти, начинал (филологи это называли зачином. А некоторые самые грамотные – экспозицией):
Деревья раздеваются.
Девчонки одеваются.
Отгадай, детвора!
Это что за пора?
Дружным хором:
— Весна красна!
Всё кругом зазеленело.
Купальник девочка надела.
Отгадай, детвора,
Это что за пора!
— Лето!
Деревья обнажаются.
Девчонки одеваются.
Отгадай, детвора,
Это что за пора?
Хором:
— Осень! Милости просим! Осенняя пора очей очарованье. Как неприятна нам твоя прощальная краса!
— Подайте Христа ради корочки голодному студенту на пропитание! Не берите греха на душу!
Бас;
— Не клянчить! Грызите вон гранит науки. Он укрепляет десны зубов, способствует усиленному пищеварению. А главное – очень полезен для мозгов, которые у отдельных представителей начинают засыхать.
Как на утреннике в детском садике. В этом смысле математики были настоящими детьми. От холодных ночей у них заиграло детство в одном месте. Это было непреодолимо.
Деревья шубы надевают.
Им девчонки подражают.
Отгадай, детвора,
Это что за пора!
— Зима!
Ах, лето красное! Любил бы я тебя!
Но на картошке жизнь закончилась моя.
Ограниченное количество времен года значительно сузило поэтический размах математиков. По логике следующим шагом должен быть переход к месяцам. Здесь всё-таки поле для творчества шире.
С другой стороны, если бы они жили на экваторе, то вообще писать было бы не о чем. Если там круглый год одно и тоже время года. Скука смертная! Никакого разнообразия. Тут же каждое утро преподносило какой-нибудь сюрприз. Глядишь, если картошка затянется до нового года, то масштабы поэтического творчества вырастут у математиков до «Евгения Онегина». У автора бессмертного романа тоже был подъем вдохновения в осенне-зимний период.
Галя Буханкина, когда возвращались в лагерь, громко произнесла:
— Как я ненавижу эту картошку! Я ее видеть просто не могу. Теперь она мне никогда в рот не полезет. До самой счастливой старости. Буду питаться только пирожными и колбасой.
Вечером она вместе со всеми хлебала в столовой жидкий суп, сваренных из рыбных консервов с картошкой. И даже не вспоминала про свои слова. Надо сказать, что и супчик был вкусный.
Потом было волшебное утро. Все одновременно стали маленькими-маленькими детьми, которым нужно двигаться, бегать, кричать, устраивать кучу малу и громко смеяться. Никто не помнит, кто первым издал этот радостный вопль. Наверно, тот, кто первым выглянул в окно.
— Ребята! Снег!
Всё было залито каким-то необыкновенным светом, мягким и чистым. На мгновение все позабыли, что они в лагере. Все бежали к окнам.
А поутру, проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Куртины, побелевший двор…
Вот и всё. их картофельная эпопея закончилась. Самым неожиданным образом. Видно, природе надоело видеть их мучения. Сколько же можно страдать ребятам? И решила она освободить их. Сейчас они пойдут на прощальный праздничный завтрак в столовую. Там, конечно, будет что-то особенное, очень-очень вкусное. Поварихи прослезятся. Товарищ полковник с глубоким прискорбием сообщит, что они вынуждены оставить часть картофеля, второго нашего хлеба, под снегом. Но у природы свои законы. Теперь уже не нужно просыпаться в холодном корпусе и бежать с синими губами в столовую, где каждый раз их ожидает одно и то же. А потом топать на поле.
Через несколько дней на разводе, то есть утренней линейке, ударники получили заслуженную награду. Такого даже никому не приходило в голову. Самым проницательным. Лотерейные билеты! Можно было даже выиграть машину. «Москвич»!
У Толи было с полсотни лотереек, когда он уезжал с картошки. Довольно приличная пачка. Больше, чем у всех. Почему-то Жеха выделял его. Никогда не повышал на него голос. Не испытывал к нему вражды, как к многим другим ребятам. Это удивляло не только Толю.
Конечно, он никогда не ругался с ним, не надсмехался над ним, как остальные. Ему даже было неприятно это. Он был человеком бесконфликтным. Но всё же…В каждом из нас живет достоевщина. Толе было даже жалко Жеху, потому что его никто не любил, смелись над ним, давали ему обидные клички. Устраивали порой состязания, кто сильнее высмеет Жеху. Может быть, у Жехи за душой было что-то хорошее, но никто этого не замечал, потому что он был человеком замкнутым, скрытным. Никто о нем ничего не знал. А если у него какая-нибудь драма? Кто-нибудь жестоко его обманул? А то и трагедия…
Имея такую пачку лотереек, Толя считал себя богачом. Не может быть, чтобы не оказалось выигрышных билетов. Не машину, но должен чего-то выиграть. Не выиграл. Ничего. Но не потому, что все билеты оказались безвыигрышными. Он так этого никогда не узнает.
Толя даже не дождался розыгрыша.
В субботу в октябре он приехал домой в Затон. Вечером выпил с друзьями дешевого вина. Магазин уже был закрыт. Да и денег почти ни у кого не было. Стали играть в карты. Играли на кухне. Сначала в дурачка. Игра очень интересная. Но от долгого играния начинает утомлять.
Перешли на очко. Толя проигрался до копейки. Благо у него их было не так уж и много. Поэтому для него игра быстро закончилась. И оставалось только наблюдать за тем, как играют другие. Келя выигрывал. Это был низенький коренастый паренек с кулаками-кувалдами. Хулиганистый. Из уличных драк всегда выходил победителем даже при численном превосходстве противника. За друзей бился до конца. Поэтому его в компании уважали. Толя решил сыграть на лотерейные билеты. И тут же все проиграл Келе. Как-то потом уже, вспомнив, он спросил у него: выиграл ли чего. Ведь целая пачка билетов.
Келя махнул рукой.
— Ничего? – удивленно спросил Толя. – Ведь целая пачка билетов! Даже по теории вероятности…
— Не знаю.
— Как не знаешь? Не проверял что ли? Тираж-то уже давно должен состояться. Сходи на почту!
— Не! Проиграл я их в саду Кирова одному бандюгану. Там у них игра идет постоянно по-крупному.
Может быть, сейчас тот бандюган рассекает на «Москвиче», насадив в него доступных девчонок-хохотушек. Одна рука на руле. В другой бутылка пива, к которой время от времени прикладываются его спутницы. Конечно, этот бандюган мог проиграть билеты другому еще более крутому бандюгану. Оставалось только фантазировать.
Деревья, как неприступные девицы, не снимали еще своих нарядов, хотя и радовали глаз разноцветьем.
Сентябрь в Сибири – это уже не лето. Особенно это заметно по ночам, которые становятся всё холоднее. Тонкие одеяла уже не спасают. Приходится свертываться калачиком.
Одеяла выдали не всем. Даже на девушек не хватило. Они сдвигали кровати и укрывались двумя, тремя, четырьмя одеялами. Кому как повезло. Ложились в верхней одежде. Надевали все рубашки, кофты, свитера. Завидовали запасливым, которые выглядели, как челюскинцы на полюсе. К концу сентября все спали в одежде. Некоторые в куртках, фуфайках, пальто. И корили себя за то, что не взяли шубу или тулуп. Не снимали и обувь. Толя снимал. На нем было два свитера. А ноги он толкал в рукава фуфайки. И они никогда не замерзали. А если спать в обуви, то ноги не отдохнут.
Утром изо рта шел пар. Шутили, что это морозовские сигареты. Бесплатно и сердито. Математики не пели не про потерянную резинку, не про времена года, но на разные голоса характеризовали обстановку, которая им все больше не нравилась. Хотя могли бы порешать уравнения, вместо того, чтобы ругаться. «Колотун, драбоган, полный крантец». Это только нормативная лексика. С ненормативной характеристика была более пространная. Утром уже никто не стоял обнаженным до пояса возле уличного умывальника. Да и вода, если оставалась в них, то подергивалась ледяной корочкой.
Самые чистоплотные макали пальцами в воду и проводили возле глаз и по щекам. А потом досуха вытирали все это полотенцем. Хотя вытирать было нечего. Совершенно. Одну девочку «скорая помощь увезла с высокой температурой». Сразу в Академгородок. Завидовали ей люто.
В один из позднесентябрьских дней пошел дождик. Сначала падали редкие мелкие капельки. Но видно смотрящему за погодой стало стыдно. Тяжесть капель увеличилась, а падение участилось. Дождик морозил весь день. И всю ночь. Под шелест дождя легче засыпается. Естественно, картошку отменили. Но чем заниматься в пионерском лагере, где ни телевизора, ни библиотеки, ни магнитофона. Даже настольных игр. Это в которых бросаешь кубик и передвигаешь фишку. Читали, писали письма, говорили о том о сем. И всё это под бесконечную мелодию дождя.
Письма были не просто отписками, вроде того: «Здравствуйте, дражайшие маменька, папенька и младший брат Сереженька. В первых строках моего письма спешу вам сообщить, что кормят нас здесь архизамечательно. Только что авокадо не дают. И то только потому, что мы не настаиваем. Очень весело. От смеха у меня болит живот». Нет! Нет! Писали длинные письма-послания, шлифуя день ото дня свое литературное мастерство. Здесь были подробные описания природы, окружающих их людей, философские размышления о смысле жизни, попытки заглянуть в недалекое и далекое светлое будущее. «Золотой век» русской культуры стал возможен потому, что у людей слишком много было свободного времени. Письма разрастались до трактата или художественного шедевра. Что и неудивительно! Мастерство растет от постоянных занятий.
Художественным даром могут обладать не только филологи, но и математики, и даже биологи. Что вообще-то трудно представить. Потому что биологов не считали совсем за людей. Биология среди наук занимала самую последнюю строчку.
Пестики! Тычинка! Ха-ха! Сразу же вспоминался рисунок, сделанный в школе биологиней на доске. А ведь есть Мандельштам, интегралы и теория относительности, которую ни один физик не мог внятно объяснить. Наверно, потому, что слишком хорошо ее понимал.
Не пугала даже мысль о том, что почувствует адресат, получив толстый конверт, в который затолкана целая тетрадка, исписанная бисерным почерком. Бумагу экономили.
Вдруг картофельный сентябрь затянется до новогодних елочек, а им не на чем даже будет описать свои впечатления от ярких новогодних праздников? Никто не видел конца картофельного поля. Только высказывали разные предположения, где оно могло закончиться. Может, оно заканчивается там, у самой советско-китайской границы. С китайцами отношения напряженные и вряд ли они разрешат нашим колхозникам сажать картошку на своих землях. Ходокам, которые ходили на край поля, тоже особой веры не было. Не признаются же они в том, что не выполнили коллективного поручения! Может быть, сходили за горизонт, посидели, покурили. И все это не торопясь, освящая свою неторопливость лозунгом «дураков работа любит». Они же не дураки. А потом так же не торопясь вернулись и рассказывали сказки братьев Гримм, как они дошли до самого края поля. А вдруг вообще никакого края нет?
Бригадир, который всё знал и четко выговаривал название центрального органа коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао», когда его спрашивали, где конец поля, махал рукой, при этом отвернувшись в другую сторону, как будто там, куда он махал рукой, было нечто такое, что не подобает видеть простому человек:
— Там!
Глаза у него были очень грустные. Большие, темные и грустные, как у колхозной коровы. Даже те, кто вначале не верил в советско-китайскую границу, теперь поверили в нее. Там и только там может закончиться бесконечное картофельное поле. Конец поля с каждым днем становился всё дальше, как светлое коммунистическое будущее, которое, может быть, когда-нибудь наступит, но уж точно не при нашей жизни.
Бабье лето – это хорошо. Днем припекает солнце, ветерок гладит кожу. И никаких насекомых.
Но в этот день и оно было не в радость. Они брели к картофельному полю. И многим казалось, что теперь они останутся здесь навсегда. И никогда они не будут учиться в самом лучшем и самом молодом университете страны.
Многие работали как роботы, как механизмы. Вот установили такую программу, они и копают. Установят другую, будут делать что-то другое. Им теперь без разницы что делать. Будут копать до тех пор, пока не закончится их бренное существование, потому что картофельное поле закончится не может. Оно бесконечно. Это необъятный океан. Это Вселенная, которая постоянно расширяется. И от них ничего не зависит.
Поэтому совершенно неожиданным было для всех, когда над полем раздался вопль:
— Всё! Закончили! Конец! Ребята! Картошки больше нет! Она вся закончилась! Нет ее больше!
Конечно, не поверили. И первым всеобщим возбуждением было поймать шутника и так ему вломить, чтобы он до конца жизни забыл про существование издевательских шуток. Есть же вещи, над которыми шутить нельзя. Святые, так сказать.
Лопаты, ведра побросали и помчались на крик. Долговязый физик стоял на краю поля, опершись на лопату и устремив пытливый взор туда далеко-далеко за горизонты.
Лохматые кудри его шевелил ветерок. Издалека это выглядела как голова Медузы Горгоны. Он держал лопату, отставив руку далеко в сторону, как самодержец держит скипетр в порыве вдохновения, когда он готов отдать приказ своим боярам готовить войско к походу. Вдали тянулся первозданный луг, который терялся за холмом, темным и загадочным.
Галя Буханкина опустилась на колени и заплакала. Оказывается, есть на земле счастье. Она знала, что никогда не забудет начало своей студенческой жизни. Такое необычное!
— А частные огороды выкопали? – спросил кто-то. – Или мы первые закончили уборку?
— Чего?
— Может быть, поможем? Опыт у нас уже есть. Оплату можем принять натуральными продуктами.
Его шутку не поддержали.
Наверно, то же самое чувствовали участники экспедиции Колумба, когда увидели наконец-то землю. Они-то до этого были уверены, что впереди водопад, который унесет их в преисподнюю.
Весть о том, что картошка закончилась, быстро разнеслась по округе. По-прежнему было немало скептиков.
На драндулете подъехал бригадир.
— Молодцы! Молодцы! Молодцы! – твердил он, как мантру. – Вон какое поле смахнули!
На бронзовом от солнца и ветра лице сверкнула, как говорится, скупая мужская слеза. Она зацепилась за щетину. Такой маленький бриллиантик на суровом крестьянском лице.
— Если бы еще и пшеницу вот так убрать!
— Извините! Это уже без нас. Нас ждут – не дождутся светлые аудитории и самые умные преподаватели мира.
— Ну, да! Это я так, ребята. Угостил бы вас, но нельзя. Спаивание молодежи. Это статья.
— Растление малолетних, — поддакнул какой-то умник.
Но все были и так пьяны от ощущения свободы, от того, что всё наконец-то закончилось.
— Генералиссимус ваш пожаловал, — вздохнул бригадир.
Как предчувствовал, что сейчас у всех будет испорчено настроение. Такова обязанность всех командиров.
Полковник шагал по полю в развевающемся плаще. Это ничего хорошего не предвещало. Останавливался, наклонялся и что-то искал в земле. Стали гадать, что он мог потерять.
Полковник подошел. На лице его никаких чувств.
— Вот выкопали, товарищ полковник, — доложил бригадир. – Подчистую, так сказать.
— Говоришь, выкопали?
— Так точно. Молодцы ребята! Разве нам своими силами выкопать такое полеще? Ни в жизнь!
— Ну!
Полковник ни на кого не глядел. Тоже плохой знак. Видно, что-то мучило его. И сразу он не мог сказать.
Бригадир покорно поплелся за полковником. Зачем это? Но ничего хорошего это не обещало. Полковник присел на корточки и, не жалея своих офицерских рук, стал ковыряться в лунке. Все молча наблюдали, не понимая, к чему всё это, что это могло значить.
— Говоришь, выкопали?
— Так точно! Выкопали! Молодцы ребята! Нам бы не в жизнь такое полище не выкопать. Обрадуется председатель. Еще не знает, наверно. Да откуда ему знать, если только что закончили.
Полковник поднялся, прошел несколько шагов и опять присел на корточки. Бригадир безропотно стоял возле. Тоскливо поглядывал по сторонам. Он уже знал, к чему идет дело.
В следующей лунке полковник тоже ничего не нашел. Бригадира так и подмывало спросить, что он там ищет. И только какое-то особое чутье подсказывало, что не стоит об этом спрашивать.
— Ага!
Голос у полковника был радостный. Над головой он держал маленькую картошечку. Может быть, в будущем из нее сформировалась бы настоящая картофелина.
— Это что?
Он еще копался. И еще нашел несколько картофелин.
Лицо его становилось с каждой картофелиной всё счастливей и счастливей. Когда его ладонь наполнилась, он уже открыто улыбался.
— Так! Копка картофеля проведена некачественно. Немалое количество картофеля осталось в земле. Что с тобой сделали бы за такое в сталинские времена? Объявили бы вредителем. Что надо делать?
— Не знаю.
— А я знаю. И тебе, как бригадиру полеводческой бригады, это тоже следует знать хорошо. Возвратиться на исходные позиции. В земле не должно остаться ни одной картофелины. Ни одной! Только тогда можно считать, что уборка картофеля завершена.
— Товарищ полковник!
— Исполнять!
— Товарищ полковник! Можно вопрос?
Это был носатый прыщавый математик. У них что от уравнений заскок лезть на рожон? Многие вспомнили про камикадзе. Математики вообще не от мира сегодня. Что вполне понятно. Если человек живет постоянно в мире абстракций, витает в потустороннем мире.
Нормальный человек не посвятит бы всю свою жизнь квадратным и прочим уравнениям.
Кому-то даже показалось, что полковник улыбнулся. Что не предвещало ничего хорошего. Улыбка на лице военного – это проявление превосходства над противником. Но куда уже хуже.
— Мы уже почти месяц здесь. Телевизора нет, радио нет, газет не привозят, музыкальные коллективы не приезжают. Мы не имеем права выходить за территорию лагеря. Лекторы из общества «Знания» и то не приезжают. Мы здесь как на необитаемом острове. Хотя у кого-то может возникнуть другие ассоциации, которые мой язык не осмелится назвать. Мы оторваны от остального мира. Не знаем, что происходит в стране.
— Представьтесь!
— Студент первого курса математического факультета Морозов Александр Иванович.
— Говоришь, Морозов?
— Так точно.
— Забавно! Хотя фамилия очень распространенная, так же, как и названия географических пунктов. Папа и мама тебя зовут Шуриком?
— Да! А откуда вы это знаете, товарищ полковник? Им фильм понравился с Шуриком.
— Я всё знаю.
— Ах, да! Извините!
— Не надо извиняться. Лопату вы еще не успели сломать? А то у некоторых работничков есть такая традиция.
— Нет.
— Берите лопату и копайте, Шурик, копайте! Родителям этот фильм, наверно, тоже понравился.
Когда ребята узнали об этом, первым их побуждением было устроить бунт на корабле. В конце концов, всех же не отчислять. И вообще они будут жаловаться на нечеловеческие условия.
Черт с ним, что не дадут автобусов! Они пешком уйдут в городок. И пусть все узнают об этом. Издевательство! Это же крепостное право! Нельзя так обращаться с людьми.
Бунт продолжался недолго. Нашлись трезвые головы и разумные мозги. Эмоции быстро угасли.
— Всех не выгонят. Но найдут нескольких крайних. Это уж как пить дать! Для острастки другим.
— И для них университет накроется медным тазом, — согласились другие. – И попробуй докажи, что ты не верблюд.
Поворчали и взялись за лопаты и ведра. На второй раз картофельное поле прошли уже, когда начало смеркаться. Кто-то от бессилья тут же упал. Глядел в небо и стонал, не веря, что всё закончилось.
Сами удивились, что получилось так быстро. За полдня пройти поле, которое они копали целый месяц! Целых четыре мешка мелкой картошки, которой хватит на одну дачу свиноматке вместе с поросятами. Неужели полковник еще будет копать ямы? Хотя с него станется!
С повторной проверкой полковник не появился. Может быть, пробила совесть. Разве такое не случается? Может быть, испугался. Как там у классика? «Не дай нам Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» А он, то есть бунт, чуть не случился.
Был обычный завтрак со сладковатым и темноватым кипятком, который громко называли чаем.
Полковник не приехал из городка.
Они сидели в корпусах, гуляли по лагерю. Василий Иванович дежурил возле сторожки с табачной коробочкой.
Прибежали смотрящие. Кто-то из них сидел на заборе, а самые смелые на деревьях.
— Ребята! Автобус! То есть автобусы идут!
Не поверили. Подумали, разыгрывают.
— Ребята! Вы что? Вы что не поняли? Там вон автобусы идут. Несколько автобусов. Это за нами!
И тут земля содрогнулась, земная ось накренилась. И всё это могло завершиться планетарной катастрофой. Но у нашей планеты нашлись силы, чтобы удержаться на орбите. Подобного оглушительного воя еще не слышали окрестности.
— Ура!
Ученые говорят, что этот возглас принесли в Европу монгольские полчища. Если это так, то у них достойные потомки.
Математики подхватили самого щуплого сокурсника и стали его подкидывать. С каждым разом все выше. Ему радость испортили. Он приготовился к худшему. К сотрясению мозга и многочисленным переломам, когда его в очередной раз подкинут и позабудут поймать. От математиков скорей всего и нужно было ожидать подобного исхода.
Медленно разворачивались автобусы, фыркали и останавливались. Одна девушка подошла и ласково погладила бок одного автобуса. Недолгие сборы. Все уже с утра, а кто-то и с вечера уже, сидели на узлах, то есть на сумках, рюкзаках и чемоданах.
Узлы сильно похудели. Выбросили истрепанную одежду, порванную обувку, пустые банки и склянки.
Курносый шофер, который всегда улыбался, закричал в окно:
— Ну, что, девчонки, набрали килограммы на свежем воздухе?
Девчонки фыркнули и ничего не ответили.
С обеих сторон поплыли черные поля. Вдали обнаженные колки. Мелькнули крыши Морозовки. Никто не пел и не шутил. Все думали о новой жизни, которая наступит совсем скоро.
17
ЛУЧШЕ НЕТУ ДО СИХ ПОР, ЧЕМ ЛЕНИНГРАДСКИЙ «БЕЛОМОР»
Оказалось, что их никто особенно не ждал. Первокурсников-гуманитариев. В главном и пока единственном учебном корпусе для них просто не нашлось места. Если на историю партии они собирались в общей аудитории, то по спецпредметам расходились по кабинетам.
Гуманитариев-первокурсников добавилось, увеличились группы. Еще создали новую группу востоковедов. Страна повернулась к востоку после конфликтов на границе. Стали изучать китайский язык. Поскольку аудиторий не хватало, освободили несколько служебных помещений, поставили там стулья, разнокалиберные столы, а на стену повесили небольшую доску. Хоть в тесноте, но не в обиде, но всё-таки будущие филологи и историки не так представляли начало своей студенческой жизни. Тогда решили перевести их в ВЦ. Вычислительный центр, пока не достроят второй корпус. Его должны были сдать к сентябрю, потом к октябрю. Занятия в нем начались после нового года.
Но еще до самой осени шли строительные работы. Стучали, громыхали, в холле первого этажа лежали мешки с цементом и стояли поддоны с кирпичами.
Филологов было восемнадцать душ. И для них выделили небольшую комнатку. Угловую. Холодную. За каждым столом сидели по три человека. Третьему приходилось моститься на углу. На общие лекции – это была история партии, философия, политэкономия ходили в главный корпус. До ВЦ можно было идти по улицам. И тогда дорога занимала почти час. Поэтому ходили напрямик через сосновый лес. Это четверть часа. Белки ничего не боялись, бегали по стволам и на студентов не обращали внимания.
Старожилы предупреждали, что ни в коем случае белок нельзя кормить. Они до того наглые, что каждый раз, если не побьют, то будут стаями лазить по вам и обшаривать все карманы. Думали, что это сказки. Оказалось, правдой. Сначала нравилось, когда белка (хорошо, если одна) усаживалась тебе на плечо и требовательно заглядывала в глаза. Но вскоре это уже раздражало.
Через день, как филологи перешли в ВЦ, появилась ОНА. В расписании стояла «Этнография народов Сибири». Это что еще за фокусы? Они же не этнографы и даже не историки.
Фыркнули:
— Всякую ерунду суют. Еще бы математику поставили. Для полного комплекта. Оно нам очень нужно. Девчонкам лучше бы этнографию Парижа, столицы моды, где Коко Шанель и ее любовь Игорь Стравинский, мушкетеры и галантные кавалеры, Нотр дам де Пари, набережная Сены, Сорбонский университет, который еще недавно устроил революцию.
Что с этих народов Сибири? Кому они нужны? Они самим себе не нужны. И слушать целый курс!
Скуластые, широколицые, с узкими щелочками глаз они до сих пор живут в ярангах и чумах и ездят на собачьих упряжках по бескрайней тундре, как ездили их предки тысячи, а, может быть, миллионы лет назад. Но им-то зачем нужны эти аборигены?
Цивилизованный человек, столица Сибири и чукчи, эвенки… К чему? Заняться больше нечем? Самый отрицательный настрой. Единённым исключением был Толя, которого привлекало все далекое и необычное. Как раз такими ему и казались народы Севера. Но Толя – человек не от мира сего. Для него это была загадка: как могут жить люди в условиях, которые совершенно не приспособлены для жизни. Чем же так необычны эти народы? Может быть, у них какой-то особый организм? Почему они не переберутся на юг?
Вот появилась Она, и всеобщий отрицательный настрой перерос в убийственно отрицательный. Они впервые видели этого человека, но уже ненавидели его. Всё в ней вызывало неприязнь. Казалось, что всё в ней было настроено на то, чтобы оттолкнуть от себя людей, вызвать в них самое негативное мнение о ней. Как такие люди могут жить?
Она была грузной, высокой. Когда она прошла от дверей до преподавательского стола, даже пол жалобно заскрипел. Если человек неприятен, то всем неприятен. Всех поразила не ее строевая походка. Да мало ли кто и как ходит. Хотя женщину, конечно, не украшает солдафонский шаг. Мужчины таких женщин боятся. Но как она была одета! Разве так можно одеваться преподавателю, особенно если ты женщина? Сорочка навыпуск. И… О! кошмар! Черные брюки, прикрывавшие внизу бездарные туфли. Женщины носили брюки, носили джинсы. В моду ухе входили женские шорты, которые, правда, вызывали осуждение у старшего поколения. Это для дома, для работы на даче, для субботников, для дискотек. Прийти в гости в брюках считалось не комильфо для дам бальзаковского возраста. Брюки не носили в учреждениях. Женщина – чиновница, преподавательница должна быть в деловом костюме. Она же приходит туда не соблазнять мужчин. Допускали некоторую вольность, кокетливость; ювелирные украшения, рюшечки, бантики, юбку до колен или даже чуть повыше. Цветные чулки. Прийти же в брюках – это сверхнеприлично, это вызов. Могли такое позволить еще молодым девушкам. Для остальных это было равносильно тому, что заявиться обнаженной или в бикини. Ну, или почти тоже самое по всплеску отрицательных эмоций. Молодая девушка, мелкий клерк (об этом даже написали в областной газете), пришла на работу в обтягивающих джинсах «мэйд ин не наши». Мужчины не сводили взглядов с ее попки. Когда она проходила по коридору, они провожали ее долгими взглядами. Девушка не могла устоять перед соблазном покрасоваться в штанишках, за которые она спекулянту выложила месячный оклад. Так ее вызвала начальница и отчитала до слез. Плакала, разумеется, девушка. Начальнице даже пришлось утешать ее.
Джинсы надолго исчезли из делового гардероба. Даже юбки она теперь носила почти до щиколотки.
В брюках, конечно, студентки ходили. Но чтобы преподавательница! На нее косились. И это в Новосибирском университете, который славился своим вольнолюбием, порой переходящим в диссидентство. Недаром именно в Доме ученых опальные барды дали свой знаменитый концерт.
Не это было главное. Не брюки. Подумаешь! Всё-таки времена были другие. Смирились и с преподавательскими брюками. С западных журналов да уже и с советских смотрели с фотографий женщины в деловых брючных костюмах. Ателье осваивали новую моду.
Обрядова поставила темно-коричневый портфель на преподавательский стол, кивнула вытянувшимся в струнку студентам, что означало, что она поздоровалась и дала разрешение садиться. Опустились на стулья. Не на пол же! Она достала из портфеля листы, исписанные мелким очерком. Положила их на середине стола, сравняла бумажную пачку. Потом тяжелую, может быть, даже хрустальную, пепельницу. Все эти манипуляции она производила в полной тишине, как бы позабыв о существовании студентов. Возле пепельницы положила пачку «Беломора», а на нее коробок спичек. Никто ничего не понимал. С нетерпением ждали разгадки. Ее движения завораживали. На ее же лице не выражалось никаких эмоций. Студенты не переглядывались, не шептались. Анна Степановна надорвала край пачки, вытряхнула папироску, размяла. Сжала мундштук, как положено. И поднесла папироску к губам. Чиркнула спичкой, сделала несколько затяжек. Подошла к окну, открыла форточку. Сделала долгий выдох. Прямая белая струя устремилась наружу. Вообще-то наружи было морозно. Девчонки зябко передернули плечами.
Анна Степановна затушила окурок в пепельнице. Подняла взгляд.
— Начнем!
Ее лекцию было хорошо конспектировать. Говорила она четко, никаких лирических отступлений, слов-паразитов. Строго по плану, логично и доказательно. Делала нужные паузы и продолжала.
Удивительно, но пара пролетела как одно мгновение. Когда прозвенел звонок, даже не поверили, что лекция закончилась. Анна Степановна еще за это время сделала пару перекуров.
— Это что было? – спрашивали девчонки на перемене друг у друга. – Кошмар! Разве преподаватель может так себя вести?
— Девочки! Надо жаловаться!
— Куда?
— В деканат. Нет! Но это с ума сойти курить на лекциях. Она еще и водку будет пить.
Стали решать, кому идти в деканат. Никто не хотел. Решили написать коллективную жалобу. Следующие перемены сочиняли и писали жалобу. Подписались. Пошли к ребятам.
— Конечно, девочки, всё это так, — согласился Слава. – Но давайте не будем торопиться. Мы же ничего не знаем о ней.
— И что?
— Спросим у старшекурсников. Они же прошли уже через это. И на счет жалобы подскажут. Нужно или не нужно. А то наломаем дров на свою голову.
Это было разумно. Да и вообще всё, что говорил Слава было разумно. Среди них у него был самый большой жизненный опыт. Он работал комсоргом в совхозе, служил в Германии, потом два года рабфака. А на первом курсе он стал профоргом. Старшекурсники, выслушав их, ухмыльнулись. Ничего не сказали, а посоветовали обратиться к Боре Шарифулину, четверокурснику, который специализировался у Обрядовой и знал о ней больше всех.
Боря – татарин. На филологическом отделении он легенда. Ему пророчат славу академика. Кажется, он знает все тюркские языки. По крайней мере, очень много. У него жесткий кучерявый волос. Очки с толстыми линзами. Он сидит на кровати. Это его любимое место. И со снисходительной улыбкой выслушивает жалобы девчонок. Кажется, они закончили. Ждут, что им скажет будущий академик.
— Не вы первые и не вы последние, — говорит Боря.
И опять улыбается.
— В смысле.
— На Анну Степановну столько жалоб, что из них можно составить солидную книгу жалоб. В прочем, читать ее будет скучно. Одно и то же. То, что вы рассказали сейчас.
— И… и почему же терпят этого солдафона в университете?
— Ну, на счет солдафона вы попали не в бровь, а в глаз. Когда началась война, Анна Степановна тогда Аня, конечно, приписала себе годы, чтобы попасть на фронт. И попала. И представьте себе, не медсестрой, не какой-нибудь телефонисткой, а стала разведчицей. А знаете, что такое фронтовой разведчик? Ходить постоянно в тыл врага. Брать «языков», сталкиваться с противником нос к носу. И вот представьте себе, эта хрупкая девчонка… а тогда она была хрупкой, я видел ее фронтовые фотографии… перерезает глотку. Да, фашисту. Но… Ни одна из вас и курицу не сможет зарубить. Наверно, после первого ее рвало. Убитый являлся ей в сновидениях. Но потом привыкла. Сколько у ней их еще будет. Дошла до Берлина.
— Мы этого не знали.
— Она никому и не рассказывает о войне. Это я слышал от других людей, которые ее хорошо знают. Да у нее орденов, медалей, с головы до ног могла бы ими обвешаться. После войны поступила в Ленинградский университет. Там как раз набирали группу, которая должна была заниматься малыми народами Сибири. И всю жизнь в экспедициях. Мне, кажется, что там нет такого уголка, где бы ее нога не ступала. Ее в каждом стойбище, на каждом зимовье знают. И даже открыла новый народ, о котором до нее никто не знал.
— Как так!
— А вот так. На Таймыре забрела в одно селение. Живут там несколько семей. Человек сто, не больше. И по жилищам, и по внешности якуты якутами. А когда заговорили, она чуть не грохнулась в обморок. Так же говорил Аввакум, семнадцатый век. Ну, выяснила, что это старообрядцы. Так далеко ушли, чтобы их никто не нашел. В жены брали якуток. А речь старорусскую сохранили в первозданной чистоте. Она им: «Так вы же русские! — «Да мы русские. Но нас называют так-то. Якутским словом».
— Феноменально!
— Азбуки создавала, писала учебники, школы открывала, редакции газет. То, что какие-то малые народы сохранились и не утратили еще своего языка, это ее заслуга. Да ее в Канаду приглашали. Она там тоже языки малых народов канадского Севера изучала. В сельве Бразилии какие-то неведомые племена обнаружила.
— Но мы же не знали этого. И всё равно курить в аудитории.
— Фронтовая привычка. Ее за это даже в райкоме разбирали. Она всех послала в одно место. Не то, чтобы ее боятся. Но представьте фантастическая женщина. Мировая известность. Смирились. Так что и вам, ребята, советую.
— Ну, ладно! Мы чо! Тем более она в форточку курит. Необычно всё-таки.
— А почему папиросы* — спросил Толя. – Всё-таки как-то сигареты…
— На дух не выносит. Только «Беломор»! и только ленинградский.
Теперь они глядели на нее другими глазами. Да, лекции ее были по-военному строги, без всякой патетики. Соплей, ничего лишнего, никакой воды. Ни одного слова не выкинешь и не вставишь. Как проза Бунина. Спрашивать ее о личном было бесполезно. Боря предупредил, что она этого дела не любит. И даже никак не прореагирует. Закончился ее курс внезапно, незаконченным. Был конец декабря. В начале занятия, кивнув на приветствие, она сказала, чтобы все сдали зачетки. Да, курс не дочитан. Но это неважно. Вряд ли кто-то из них хочет стать этнографом. А кто захочет, и без ее курса станет.
Всем поставили зачеты автоматом.
Анна Степановна исчезла. Ее не видели ни в ВЦ, ни в главном корпусе. Снова пошли к Боре.
Он покачал головой.
— Кризис. Обострение.
— Не поняли!
— Ну, не может она долго в городке. Что-то ее гложет. И едет к своим детям. Наверно, так их нужно называть. На самолете, на поезде, на машинах, на тракторах, на вертолете, на оленьей упряжке. В какое-нибудь далекое стойбище. Где она всех знает. А ее встречают как родную. Для них это праздник.
Закурила Анна Степановна, тогда она еще, конечно, была еще Анечкой, после того, как погиб Саша. Он прикрывал отход разведчиков. Ребята вышли к своим. А Саша остался лежать на вражеской территории.
Паренек с застенчивой улыбкой. Таким она его запомнила навсегда. Молодым, светлоглазым. Успели поцеловаться с ним два раза. Он даже стеснялся обнять ее, прижать к себе. Анечка выпила с разведчиками неразбавленного спирта. Всё внутри горело.
Ей хотелось реветь. По-бабьи. Но она удерживала себя. Отворачивалась и вытирала мокрые глаза. Она знала, что плакать нельзя. Она же не баба какая-нибудь, а разведчик. Один из разведчиков протянул ей папиросу. И Анечка поняла, что это как раз то, что ей нужно. Да, это был «Беломорканал». Тот самый, ленинградский. Доступный далеко не всем на фронте. Курили в основном махорку. А у разведки были папиросы и немецкие сигареты.
Не всегда она была такой грузной. И не всегда у нее была солдатская походка. Но теперь не было человека, которому она хотела бы нравиться, выглядеть в его глазах женственной. На фронте мужчины всегда чувствуют, к кому можно подкатить, а кому нет. А то самое малое, что схлопочешь по морде. Но бывали случаи и тяжелее.
К Анечке не подкатывали. Видели, что ей, кроме Саши, никого не нужно. Даже когда его не стало.
Симпатичная девушка. Хрупкая. В университете к ней пытались, как говорится, подбить клинья. Чего ж, думали мужики, добру пропадать. Были и безусые юноши и те, кто вернулся с войны. Перехватив ее взгляд, тут же прекращали всякое ухаживание. Взгляд у нее был спокойный и твердый, никакого волнения. Никакого смущения. Когда она так смотрела на очередного ухажера, то он чувствовал, что ему на шею набросили удавку и душат. После этого никакого желания подкатить к ней уже не оставалось.
Она, конечно, не вышла замуж. А вот дети у нее были. Много детей. На огромной территории. Ради них она теперь жила. И относилась к ним по-матерински.
Анна Степановна стала делать то, что как-то не соответствовала линии партии и государства в отношении малых народов Севера. Хотя вступила в партию еще на фронте. Линия была такая: идем к единой советской общности – советскому народу, где национальные различия постепенно стираются. Малые народы надо поднимать, оцивилизовывать, окультуривать, чтобы все у них было как у русских и у других народов Союза: школы, больницы, благоустроенные квартиры в городах и поселках, свои механизаторы, учителя, врачи, работники культуры. Выдирать их из этой дикости.
Анна Степановна стала говорить и писать, и публиковать свое мнение о том, что попытки цивилизовать малые народности разрушают традиционный уклад их жизни. И в конечном счете это приведет к их исчезновению, растворению среди больших народов. Их не будет, они исчезнут. То, что для русского бутылка водки – всего лишь бутылка водки, для эвенка, кета, селькупа – это уже алкоголизм, уничтожение личности. И ранняя могила. Ну, иначе они устроены, их организм, нет у них в желудке, крови продуктов брожения, которые мы получаем с раннего детства вместе с хлебом, овощами и фруктами. У них нет ни малейшего иммунитета против спиртного.
Большую часть года дети оторваны от своих родителей, они живут в школах-интернатах, где постепенно начинают забывать родной язык, презирать своих родителей, их занятие. Они уверены, что поднялись на более высокий уровень. Хотят стать такими же, как и русские. Через год – два многие ребятишки начинают носить очки, чаще болеют, поскольку организм их ослаблен. Они дети оленеводов, охотников, которые за сотни метров увидят птаху или мелкого зверька и метко попадут в него. Дети уже ничего этого не увидят. Они стыдятся своих родителей. И чем меньше народ, тем он быстрее вымирает, ассимилируется, растворяется среди других более крупных народов. Мы даже не знаем, сколько народов уже исчезло с карты Сибири. Молодые уже не будут говорить на языке своих родителей, петь песни, которые пели их предки.
Позиция Анны Степановны вызвала недоумение, непонимание. Ее вызывали, прорабатывали, указывали на то, что ее взгляды расходятся с официальными. Получила партийный выговор. Но Анна Степановна с солдатской прямотой продолжала гнуть свою линию. И с годами упорство ее только нарастало. Предложили причислить ее к диссидентам, тем более, что в зарубежных странах она общается с разной публикой, среди которой, вероятно, есть и антисоветчики. Предложение не встретило понимания.
— А вы знаете, сколько у нее боевых наград? – спросил первый секретарь райкома парт ии.- И такого человека вы называете диссидентом?
На этом и заткнулись. Тем более, что Анна Степановна в карман за словом не лезла. Чудачка! Может быть, немного и того! Вот и живет одна и в брюках ходит. Курит папиросы, как сапожник. Даже на лекциях. На замечания реагирует негативно. Оправдывается тем, что курит в форточку и вреда здоровью никому не наносит. Любого может послать подальше по-простому, по-солдатски. Даже на официальных собраниях могла разразиться площадной бранью.
Махнули рукой. Смирились. Тем более, что ученый с мировым именем. Ученый мир ее хорошо знает, на разных конференциях бывает и на иностранных языках говорит. Делает одна за целый институт. Из тайги и тундры не вылезает. Говорят, даже на медведя ходила с рогатиной. Глядя на нее, поверишь в это.
Первокурснику сдавали свою первую сессию. Анна Степановна в это время мчалась на оленьей упряжке в стойбище к знакомому эвенку, который был для нее и братом и сыном. В стойбище уже знали, что она едет и готовились к встрече. Они в ней видели родственную душу. Анна Степановна знала каждого ребенка по имени, знала, как каждому угодить, сделать приятное. Подарков был целый мешок.
Мороз за сорок. Но это для нас мороз, когда каждый выход на улицу воспринимаешь как подвиг. Для человека тайги и тундры — это обычное явление. Он даже удивится, когда ему скажут, что это мороз. Да и понятия мороза для него не существует.
В лицо бил ветер. На бровях Анны Степановны висела снежная гирлянда. От упряжки шел пар. Оленям на бегу было даже жарко. И они время от времени хватали снег.
Анне Степановне было хорошо. Ей хотелось смеяться и бить в ладоши, как озорной девчонке. Не то, что в душных помещениях городка, где все официально и чинно. Скоро она будет сидеть в чуме на почетном месте. Пить чай. Слушать бесконечные рассказы о том, что произошло после ее последнего приезда. Время от времени Анна Степановна будет вытряхивать очередную папироску из пачки. Не торопясь, разминать ее, сжимать крест на крест конец мундштука. Никто ее, женщину, не осудит за курение. В стойбище курят все, кроме детей.
18
И ТУТ ПРИШЕЛ ПЕТРОВ
Уже решили, что хватит про Петрова. Тоже нашлась еще одна эпохальная личность! Хотя некоторые придерживаются именно такого мнения. И среди них, конечно, сам Петров. Но мы решили, потому что он надоел нам до чертиков. Куда не придешь, только и слышно «Петров! Петров!» Ни одна гулянка без него не обходится. Хотя сам Петров другого мнения. Противоположного. Он считает, что нужно быть в каждой бочке затычкой. Что если какое-то событие происходит без него, то этого события не было. Он уверен, что никакой Варваре на базаре нос не отрывали. Она сама кому угодно, кроме носа, всё остальное оторвет.
Не сказать, что совсем делать было нечего, как в известном детском стихотворении. Сессия не за горами. Кое-кому и хвосты не мешало подчистить, чтобы потом не кусать локти вместо котлет и салата в студенческой столовой. Кое-кому нужно было отправляться в ночную смену в котельную или на боевое дежурство, чтобы утром на лекции заявиться свежим и хорошо выспавшимся. Такие уже заранее начинали зевать, да так громко, как путешественники, которые идут по джунглям и подобными возгласами распугивают ядовитых змей и доводят до истерики царя джунглей. Но в общежитии к этому привыкли.
Разговор зашел про еду. Точнее про ее постоянный недостаток, а то и полное отсутствие. Тема была интересной и никого не могла оставить равнодушным. Говорили об этом с пафосом и гневом, считая, что это самая большая несправедливость в мироустройстве. Такого не должно быть. Или уж совсем мало. Баяндину хорошо! У него нет совести. Он каждый вечер шакалит. И среди них самый толстый. То есть единственно толстый. В общем, с заметным брюшком. Совесть ему заменил собачий нюх. Еду он чувствует на огромное расстояние. Если где-то кто-то чего-то задумает в смысле еды, он уже тут как тут. Даже стоит просто подумать, что надо что-то приготовить, он уже скребется под дверью.
— Петров хоть на выпивку только идет!
— Ууу! — завыли все. – Мало того, что про еду, так еще и про выпивку! Это уже садизм!
Петрова не стоило бы вспоминать. Тем более на ночь глядя. Плохая примета, которая обязательно сбудется.
Ни капельки спиртного у них, конечно, не было. Кое-кто даже забыл его вкус. Месяц подходил к концу, и от стипендии остались только приятные воспоминания. А до следующей, считали некоторые, они уже не доживут. А если и доживут, то что это за жизнь такая! Никто в долг не давал. Да и давать было нечего. А те, у кого что-то и было, таились, потому что могли узнать и тогда только успевай отбивайся.
— Говорят, что Баяндин уже и другие общежития начинает осваивать. Настоящий землепроходец!
Согласились.
— С него станется! Хорошо живется тем, у кого нет совести. Счастливейшие люди!
— Сейчас бы домой. Маменька напечет пирожков с яйцами и луком. А если есть мясо, то и с ним. Не успевает их выкладывать на тарелку. Они тут же исчезают. Пирожки еще горячие, брызжут жиром, а ты уже хап его, обжигает пальцы. Перебрасываешь его с руки на руку. И жуешь с широко открытым ртом. Еще один не дожевал, а уже другой хватаешь. Ой! Ой! Как ладони жжет! И как жонглер!
Со всех сторон завопили:
— Хватит!
И рассказчик понял, что благоразумней будет замолчать, иначе его начнут больно бить, щедро используя нецензурную брань. А воспоминания о маминых пирожках и нецензурная брань – вещи всё-таки малосовместимые.
Фамилии тут не имеют значения, поскольку разговор шел, так сказать. Концептуальный. Поэтому важна не личность, а позиция личности, ее мироощущение. Как прожить на студенческую стипендию, не протянув ноги и не превратившись в нищеброда в лохмотьях и с воспаленными от отчаяния и постоянного недоедания глазами. Вопрос, который волнует миллионы молодых людей. Таких что-то не наблюдалось даже среди тех, кто вообще не получал стипендию. Не одной же они наукой были сыты! Даже чистый сибирский воздух вряд ли насытит. А не получать стипендию было очень просто. Для этого было достаточно завалить экзамен, обзавестись хвостами или совершить какой-нибудь аморальный поступок. Например, попасться в оскорбляющем человеческое достоинство пьяном виде на глаза четверокурснице Буренковой. Она на дух не выносила пьяных. Такие были. И не один-два, а побольше. Без двоечников из нашей жизни исчезла бы острота ее восприятия.
Ничего. Не один не умер от голода. Даже не стал стройным громыхающим костями дистрофиком. Обмороков на голодной почве тоже не наблюдалось. И никому это не казалось странным. Одевались, покупали тетради, ручки, книжки, ходили в кинотеатр. Девушки еще и косметику приобретали. Но не французскую. И чаще всего даже не польскую. В рестораны ходили. Пусть единицы. Пусть не дальше барной стойки…
Выкручивались, как могли. Кто-то со стройотряда привозил энную сумму. Порой немалую. Хватало прибарахлиться, обзавестись новым магнитофоном и отметить это дело. Еще и подкармливались целый год. Ну, по крайней мере до нового года. Помогали родители. Кто-то подрабатывал. Ездили на калым на вокзал или овощехранилище. Старшекурсники, кроме самых ленивых, находили работу в городке. Везли из дома сумки с продуктами. Особенно деревенские. Или подбрасывали родственники.
Не об этом речь.
Иванов… назовем его так… условно… юноша с горящими глазами принес стакан воды. Чего-то другого он не мог себе позволить по причине полного безденежья. Надо сказать, что кофе давным-давно кончилось. А чай экономили, особенно, когда приходили гости. Зачем при гостях запаривать? Они же не уйдут, пока весь чай не выпьют. Был чай и нет его. На халяву будут глотать стакан за стаканом. И наливать побольше заварки. И большими глотками, а не смакуя, как это делают в приличном обществе. У себя так не пьют. Заварку на два-три раза разводят, пока она всякий цвет не потеряет.
Иванов, похлебывая водичку, ораторствовал (у кого-то могло сложиться впечатление, что это даже не водичка была):
— Мужики! Я ведь тоже первое время и первое брал, и второе, и компота два стакана. Иногда баловал себя пирожным или какой-нибудь насыпушкой. Сладким желе не брезговал. Мне как-то особенно на десерт нравилось. Всё так во рту и тает.
— Знаем! – закивали. – И уже к двадцатому денежки – хлоп! – и нет. А до стипендии еще две недели.
— Хлеб с водой. Так и дотягивал. Хотя стыдно было первое время. Жевал хлебушек, чтобы никто не видел.
— Это дым глаза выедает, а стыд нет, — заметил филолог. – Кто честной бедности своей стыдится и всё прочее, тот самый гадкий человек и всё такое прочее.
Иванов проигнорировал высказывание, как будто оно совершенно к нему не относилось.
— Месяц так, второй. А потом говорю себе: «Э! Иванов! Так жить нельзя! Неправильно ты живешь! Такие резкие колебания обеспечат тебе букет болезней к моменту получения красного диплома» Ну, на счет красного диплома это я так для красного словца.
— Мы твои шуточки знаем! – ухмыльнулись слушатели. – Ты же у нас будущий академик и лауреат Нобелевской премии. Хотя по истории ее, кажется, не дают. Но для тебя сделают исключение.
Этот комплимент Иванов проигнорировал. Он был не падок на лесть. Тем более, такую топорную.
— Будет у меня язва, гастрит и многое другое, чего я еще пока названий не знаю. И всё это мне одному! Сел за стол, взял ручку и занялся математикой. А чего вы так на меня смотрите?
— Ты имеешь представление, что это хоть такое? – пошутили товарищи. – Хорошо, что слово еще не забыл.
Иванова невозможно было сбить с тропы мысли, на которую он ступил. Человек он был последовательный и на мелочи не обращал внимания. Тем более на шутки.
— Стал считать. И получилась любопытная картина, которой я невольно залюбовался. Питаться нормально вполне можно, причем еще останутся средства и на дополнительные расходы. Дополнительными я называю очень мелкие расходы. Но необходимые.
— Ты бы зарегистрировал свое открытие, получил бы патент. А потом бы торговал им.
— Вы не смейтесь! Рекомендую, кстати.
— Ну-ну! очень любопытно узнать, что же это за величайшее открытие. Не поделишься?
— Пришлось исключить из меню котлеты, гуляш и вообще всё мясное по причине дороговизны. Два раза в неделю! Не больше! Можно позволить себе тефтелину. Один раз даже лучше. Пирожные забыть. Всякие десертные сладости забыть! Компот заменяем чаем, но зато три стакана. Всего-навсего девять копеек. Зато пузо раздувает. Хлеба побольше. Он почти ничего не стоит. Да и на столе всегда остаются куски. Гарнир… а это картошка, лапша там… две-три порции в одну тарелку. Если три порции. Это восемнадцать копеек. И того получаем… Так, восемнадцать копеек…
— И на восемнадцать копеек набил пузо лучше, чем если бы съел три котлеты. Молодец, Иванов!
— Конечно! Экономия в два раза. Но только обед в столовой. Никаких завтраков и ужинов. Покупаю в магазине кефирчик, хлебушек. Это на ужин. Ну, и чай, само собой. В буфете завтракаю. Бутылка лимонада и булочка. Восемнадцать копеек выходит. Знаете, как лимонад потом в нос шибает. Правда, надолго такого завтрака не хватает. За день укладываюсь в рубль. Иногда чуть-чуть побольше. Ну, там пирожное позволю.
— Всё! теперь ты уже не думаешь со страхом о конце месяца. Так же, Иванов? Молодец!
— Да! Теперь я забыл, что такое великий пост. Хоть и не до жиру, но живым останусь. И конечно, не надо никому давать в долг. Ведь каждая копеечка на счету. А тут дашь, и сам соси лапу.
— Еще и не отдают.
Все поглядели на Мишу, который даже не повел бровью. Он рассматривал свои пальцы.
Он-то тут при чем, если ему занимают даже те, которые никому никогда не занимают.
— Ты же Плюшкин! – восхитился Сидоров. – Я имею в виду в положительном смысле.
Вообще-то никакой он не Сидоров. Но это неважно. Сидоров, Петров, Иванов… Какая разница? Тема концептуальная, а не мемуарная. Тут главное позиция, мироощущение. Об этом я уже сказал.
— Нет! Я так не могу, — проговорил Сидоров. – У меня так ни за что не получится.
В животе у него урчало.
— Математика – конечно, наука серьезная. Кто бы спорил. Царица наук. Как было у нас написано в классе. Я всё равно скучаю от нее. И потом. Хоть я не Баяндин, но покушать люблю. Мне бы такую совесть, как у него. То есть отсутствие оной.
Баяндин поправил очки и посмотрел на часы. Такое впечатление, что стрелки вообще перестали двигаться. Час в его распоряжении. А кушать хотелось сейчас. Еще и не факт, что найдешь добычу.
«Ну-ну! Мели, Емеля, твоя неделя!» — подумал он.
— Трястись над каждой копейкой – это не по мне. Что я Плюшки какой-то? Деньги – это мусор. И к тому же я не еврей.
Все посмотрели на Сидорова. Нос картошкой. И никакой смуглости. Если и сгодится куда-нибудь, то только выступать в еврейском цирке клоуном. Успех обеспечен!
— Вот ты приходишь в столовую, становишься в конец очереди и медленно движешься к кассе где рассчитываешься за несъеденные еще тобой яства. Это так банально. Но так поступают почти все. А если начать с конца и идти к началу, то вообще ничего не придется платить. Потому что в начале очереди никакой кассы нет. Это же так элементарно! И последовательность принятых блюд не будет нарушена. Это очень естественное движение от конца к началу.
С ним согласились.
— Конечно, порядок блюд не будет нарушен. Сначала первое. Это в самом конце очереди…
— Всё просто! Меня удивляет, как до этого не могли додуматься раньше. Другие. Пустой чистый поднос. Так? Так! Ты его взял со стола подносов. Подходишь к очереди. Идешь к концу очереди. Не будет же кассир брать с тебя за пустой поднос? Так что ты вне всяческих подозрений. Мало ли кто и зачем ходит с пустыми подносами.
— Понятное дело.
— «Ой! – говоришь. – Забыл тут прихватить!» Перешагнул через эту трубу и протискиваешься от конца очереди к ее началу. Вы же знаете, какая очередь в столовой после занятий, когда обед. Это час пик. Обычно запускают вторую линию. И всё равно приходится стоять долго. Некоторые звереют от голода…Отвлекусь! Дело было зимой. На первом этаже в гардеробе, где одежду принимают. Тоже в обед этих самых крючков не хватает для одежды. Одежду принимала симпатичная девица из тех, которые пробовали поступить в университет, но не поступили. Знаете, пампушечка такая! И тут во! И тут во! Есть за что подержаться. Видно, в деревне выросла на парном молоке и свежем воздухе. На такой бы даже я не отказался покачаться. Хотя я человек разборчивый.
Отобедал, спускаюсь. Девушки нет на месте. Покричал. Никто не отвечает. Ну, может, приспичило! Подождал. Нет, не идет. «Э! Где вы там? Ау!» — кричу. Ждать-то уже надоело. Сами знаете, у меня хлопот, в смысле дел, полный рот. Каждая секунда на учете. «Мне бы пальтецо, девушка! Ау!» Топчусь. Не появляется. «А, может быть, — думаю, — лежит сейчас без сознания! А то и того! Работа-то нервная!» Уж слишком долго она не появляется. В общем, самые плохие предчувствия. Пойду, думаю, сам возьму. Пальтецо-то у меня примечательное. Да и место, куда она его устраивала, примерно помню. Заодно и посмотрю, что с ней. Может быть, искусственное дыхание понадобится.
— Ты к сути сразу переходи!
— Ссут, ребята, в сортире, как говорила моя бабушка. Так вот… Прошу больше не перебивать меня! Дверка там такая с краю. Подхожу, руку протянул, нащупал защелку и открыл. Захожу, стало быть, в гардероб. Какой только верхней одежды здесь нет! И пальтишки, и шубки, и полушубки, и тулупчики, с полутулупчиками. И плотно так висят. Порой на одном крючке сразу две одежонки. Как тут можно разобраться? Всё-таки сложная работа у гардеробщиков, а платят с гулькин нос. Опять социальная несправедливость. А каких только запахов за день тут не надышишься!
— Сидоров! Тебя не переслушаешь!
— Не видно ничего. Раздвигаю, продвигаюсь потихоньку вперед. Как будто по джунглям. Вроде где-то тут пальтецо мое. Хотя, признаться, впервые попав в гардероб, я понял, как здесь легко заблудиться. Тут слышу какие-то подозрительные звуки. А-а-а! Что-то они мне напоминают. Неужели? Да нет! Такого быть не может! О-о-о! Ой-ой-ой! Но всё-таки мне не верится, что рядом происходит нечто подобное. Вроде бы как на разные голоса звуки. Один тонкий. Другой потолще. Продвигаюсь. Звуки становятся громче. Да нет! Быть такого не может!
— Сидоров! Ну, хватит тянуть кота за это самое!
— Гляжу на куче пальтишек, шубенок, шарфиков, шапок голая задница мелькает. Вверх – вниз! Вверх – вниз! Причем с поразительной ритмичностью. И задница такая белоснежная. Она-то меня видит, а он нет. Продолжает свое дело с тевтонской такой педантичностью. Она мыкает и хочет ему что-то сказать. Ну, тому, который с белоснежной задницей. Значит, вверх – вниз, вверх – вниз. Без передыха.
— И чо?
— Ну, ему, конечно, не до этого. Настолько его увлек процесс, что ноль внимания на знаки, которые она подает. У него самый экстаз. Тут хоть всё рушиться начнет кругом, он и не заметит. Я через них перешагиваю, чтобы пальтецо забрать. Прихватил пальтишко. «Работайте, — говорю, — ребята! Наращивайте темпы! А то, что мое пальтецо не использовали, за это вам отдельная благодарность. Да и жестковато у меня пальтецо. На женских шубейках-то помягче будет!» … Что я хотел сказать? Ну, не эту же, конечно, историю, которая вообще-то не характерна для нашей советской действительности.
— Вообще-то ты хотел что-то рассказать про математику.
— Ну, да! Только разволновался и отвлекся. Такие факты нашей жизни очень возмущают меня. Эта картинка до сих пор у меня перед глазами стоит. Даже на смертном одре буду вспоминать об этом. Когда я буду писать свои мемуары, то обязательно вставлю эту сценку. Ну, не все же о серьезном и о высокой науке. Надо иной раз и развлекать читателя. Так вот про математику. Стоим мы, значит, в очереди. Очередь, естественно, очень длинная, как всегда бывает в обед после лекций.
— Да! Обычно полчаса приходится стоять в очереди, — согласились с ним.
— Голод – не тетка. То котлетку отломишь, то булочку откусишь, то компотик хлебанешь. Салатик капустный вилочкой подцепишь и в рот. Аппетит от этого еще больше разыгрывается. Пока дойдешь до кассы, уже и тарелки, и стаканы пустые. Или чуть-чуть на донышке осталось. Только облизать и обед на этом можно считать законченным. В голову мне приходит золотая мысль: «А почему я собственно должен платить за пустые тарелки и стаканы? В каком таком законе это записано?»
Слушатели погрустнели.
— Нет, я, конечно, человек чести. Деньги для меня ничто, мусор, пережиток проклятого прошлого. На кассе я говорю, что вот в этой тарелке была картошка с котлеткой, вот в этом стакане был компот, а вот в этой тарелочке салатик из капусты. Рассчитываюсь, несу поднос с пустой посудой к мойке. Вы чувствуете абсурдность? Я заплатил за пустые тарелки и стаканы, еще и должен отнести их в моечную!
Кое-кто побледнел. Видно, ему тоже подобное приходило в голову. Но он никогда не высказал бы этого в слух.
— Это же идиотизм просто! Это же в какой степени нужно не выдавить в себе ни единой капельки раба! А я даже за столик не присел. Всё это время провел на ногах. Может быть, у меня вообще никакой котлеты не было? Может, это предвиделось голодному желудку? Может быть, в очереди я впал в сон или от голода произошла кратковременная потеря памяти? После того, как эта мысль пришла в мою – не буду скромничать – умную голову, я понял, как нужно действовать. Многим вообще никакие мысли не приходят в голову. К кому-то они изредка приходят, но он не превращает их в действия. Сначала я выпиваю компот с пирожным или булочкой. Но лучше с пирожным. А еще лучше с двумя или тремя. Это уж как получится. Но жадничать тоже не нужно. Я выпиваю стакана два. Не больше! Ведь собственно обед еще не начался. Это всего лишь для желудка разведка боем. Пустые стаканы, разумеется, тихо и скромно ставлю на место. Тут только нужно действовать решительно и быстро. Очередь, пусть медленно, но всё-таки движется. А вы заметили, что порой на раздаче стоят пустые стаканы. Откуда же они взялись? В некоторых две – три ягодинки от компота. Думает, что не один я такой умный.
— Мы думали, что не успели налить, — сказал Комиссаров. – Хотя откуда тогда ягодки?
— Конечно, забыли. В обед у них запарки. Две ягодки бросили, а компот забыли налить.
— Ну, ступили мы, Петров. А что дальше?
— От десерта медленно продвинулись к легким закускам. Выбор здесь обычно небольшой. Салатик из капусты с добавлением морковочки, желе чуть сладковатое, какая-нибудь травка. Переходим к горячему, что больше всего нравится желудку и насыщает его. Умяли котлетку. Маленькая она какая-то. Ну, тогда две. Больше не надо! Могут заметить. Поэтому наглеть не надо. Те, кто говорит, что наглость – второе счастье, не правы. На тарелочке у тебя остается один гарнирчик, картофельный или лапшичка.
Гарнир с мясом дороже. Но я уже отведал мясца. Поэтому можно ограничиться одним гарнирчиком. И всё! Заплатил сущие копейки. Сел на свободное место. Лениво пожевал. Аппетит так себе, средненький. Но уплотниться надо. Порой ем через силу, порой даже не доем. Жалко уплаченных денег. Хоть и копейки, но деньги. Отнес поднос с грязной посудой. Некоторые этого не делают. Это недостойно советского студента. Отдуваешься идешь. Сыт по горло. Но это только в обед, который у меня всегда плотный, как и положено. Потому что до вечера далеко. В обед в столовой вавилонское столпотворение. А вот на завтрак и ужин это уже не пройдет. Народу немного. Работает одна очередь. И там народу раз=два и обчелся. Повара расслабляются, обращают на тебя внимание, особенно молодые женщины. А ты красивый, как Аполлон. И вздыхают, почему такое проходит мимо них.
— Не попадался ни разу? – спросили Сидорова. – Неужели на раздаче такие невнимательные?
Сидоров постучал по дереву. Не то, чтобы он был суеверный. Но на всякий случай.
— Поглядите на меня! Разве кому-нибудь в голову может прийти, что человек с таким благородным лицом, с такими по-детски доверчивыми глазами способен на обман. Поэтому, если кому-то не повезло с внешними данными, лучше не повторять мой опыт.
— На такое я бы не решился, — сказал Комиссаров, который от случая к случаю потаскивал книжки из книжных магазинов.
Но если бы даже сказал кто-то другой, сути это не меняет. Разговор-то концептуальный, так сказать, мировоззренческий: как студентам прожить пять лет и сохранить жизнь.
— Совесть, наверно, потом замучит. Всё-таки это обман. Может быть, даже уголовное преступление.
И тут пришел Петров. Он всегда появлялся там и в то время, когда дело заходило в тупик.
— Кто тут о совести говорит? – спросил он. – Что вы можете знать о совести? Бессовестные вы люди!
Бесцеремонно бухнулся на чужую кровать. Ботинки он никогда не снимал. Спасибо, что не залез на постель с ногами! Коротко передали содержание концептуального разговора. Петров слушал внимательно, не перебивая и никак не выражая эмоций. Но потом лицо его посуровело.
— Платить за то, что тебя кормят, не только должно, но и нужно. Как только подобное могло вам прийти в головы?
Он сделал паузу. Строго оглядел собравшихся. Так воспитательница глядит на расшалившихся детей.
— Можно платить по-разному. Назначить цену обеду. Самому. Иногда можно и не платить. Когда денег нет. Не штаны же вам снимать с себя? И кому нужны ваши штаны. Но не платить надо не часто. Не чаще одного раза за день или за вечер. Чаще – это уже перебор и нахальство. Я лично никогда себе такого не позволяю. Всё-таки совесть надо иметь. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы не отнимать у себя драгоценного времени. К тому же, я уверен, что вам не нужно этого делать. Почему не нужно? Потому что у вас всё равно ничего не получится. Тут главное личные качества. Чтобы так делать, нужно родиться таким и отслужить не менее двух лет в стройбате. Ибо стройбат – это настоящие университеты жизни.
Само слово «стройбат» ассоциировалось с чем-то таинственным и угрюмым, как сибирская тайга.
— В прочем, для вас это еще не поздно. Тем более, что место гуманитарию только в стройбате. Способы, о которых вы мне кратко поведали, стары, как мир. И вызывают у меня зевоту. Я так еще в начальных классах делал. Нет! Вру! В яслях. А вы все еще пребываете в грудном возрасте. Вот, дорогой Сидоров, а ты не пробовал сделать наоборот? В прочем, зачем я это спрашиваю. Если бы ты так сделал, то не был бы уже Сидоровым.
— Это как?
— Ну, как… Очень просто! Каком кверху! Это юмор такой народный. Идиома называется.Ты становишься в конец очереди и черепашьим шагом двигаетесь к кассе, где рассчитываетесь за несъеденные вами яства. Так поступает подавляющее большинство. Можно сказать, почти все. А если стать с конца, то есть с кассы, и двигаться к началу очереди, тогда вообще ничего не придется платить, потому что там никакой кассы нет. И последовательность принятых блюд не будет нарушена: сначала первое, потом второе и в завершении десерт. Что и требуется для здорового молодого желудка. Вот так, друзья мои дорогие! Всё просто и доступно. Но чтобы прийти к этому нужно иметь неординарный ум.
Дорогие друзья желали услышать подробности.
— Первое ваше действие, когда вы приходите в столовую… какое? Берете чистый поднос и становитесь в очередь. Так? Технология, отработанная до автоматизма. Что может быть как-то иначе, никому и никогда не придет в голову. Идете в конец очереди. А заканчивается очередь возле кассы. Не будет же кассир брать с тебя за пустой поднос. Он даже не обратит на тебя внимания. Вот это самый важный психологический момент.
— Ну, понятное дело! Подошел с пустым подносом к кассе. А дальше-то что? Всё равно же к кассе придешь!
— Зачем? А теперь я двигаюсь в обратном направлении к концу очереди. Поднос у меня полный. Но кассы же там никакой нет. С полным подносом иду за столик и обедаю в свое удовольствие.
Все с уважением смотрели на Петрова.
19
РАССКАЗ О ПРАВДЕ
Телевизоров не было. Наверно, они были в продаже. Но в магазинах их не видели. Может быть, их выдавали по разнарядке. Где-то же люди их брали. Но Толя их в продаже не видел. Даже в магазинах культтоваров и радиотоваров. Спрашивал, продавцы пожимали плечами. И стоили они, наверно, ого-го! Может быть, тянули на две месячные зарплаты. А может, и больше. Так что, если бы они даже продавались, не всякий бы их купил. Родители купили телевизор с рук. В Новом Затоне. До него где-то километров пять от их дома. Там делали мелкий ремонт судов. Телевизор купили за сто рублей. Это месячная зарплата матери. Она работала маляром в РЭБе (ремонтно-эксплуатационной базе). Завернули телевизор в одеяло. Одеяло завязали узлом. Отец взвалил телевизор на спину. Он был грузчиком в магазине и для него это не тяжесть.
Так тащил до дома. Правда, дорогой сделал несколько перекуров. Он ранбще не курил, пока не попал в больницу. И кто-то ему посоветовал: чтобы не толстеть, надо курить. После этого он закурил. Мать забегала вперед, потом назад и смотрела: не рвется ли одеяло. Ей всю дорогу казалось, что одеяло трещит. Добром это не кончится. Она была уверена в этом. Или муж запнется. Или одеяло лопнет и драгоценный груз рухнет на землю. Что она только не передумала за дорогу! Какие только кошмарные картины не рисовались ей. Если телевизор грохнется, у нее будет разрыв сердца.
Но отец ни разу не запнулся и одеяло не порвалось. Телевизор был доставлен до дому. На улицу Вторую Потовую, дом девять, квартира номер три. Это на втором этаже, на который нужно подняться по крутой лестнице. Лестница скрипела на разные голоса под тяжелой поступью отца.
Телевизор был водворен на почетное место. Это был длинный низкий шкаф, высотой с метр, в котором мать хранила белье. Шкаф или комод (его называли и так и этак) стоял у большого окна. Подключили трансформатор, рогатую антенну и включили телевизор в розетку. После чего все отошли. Всех было четверо: родители, Толя и его старший брат. Трансформатор загудел, через некоторое время засветился экран черными и белыми точками. Все смотрели на экран, затаив дыхание. Но ничего не происходило. Рябь никуда не исчезала и никакого изображения не появлялось. Что делать дальше, не знали. Может, телевизор сломался, пока его несли до дому. Именно так и сказала мать. Проверяли же, когда покупали, всё работало. На экране был такой кружок, похожий на лицо, с циферками и буковками. Время было раннее. Может, вечером телевизор начнет показывать? Телевещание начиналось вечером. Но у капитана, у которого они покупали телевизор, был на экране круг с циферками и буквами, а у них ничего нет.
У капитана в Новом Затоне на экране был не только круг, но еще телевизор и пищал непрерывно, как крольчонок. Как будто он чего-то выпрашивал у хозяев. А у них тишина. только ровно гудел трансформатор. Значит, что-то не так. Неужели телевизор сломался?
— Ты его нигде не ударил? – робко спросила мать у отца. – Может, когда опускал, ударил?
Отец зло посмотрел на нее. Никто не знал, что делать. Неужели всё-таки телевизор сломался?
Раздался веселый голос. Это вернулся с работы сосед дядя Миша. Он работал шофером. Шофер должен разбираться в любой технике. И вообще шофером может быть только умный. Дядю Мишу позвали. Он стал щелкать трансформатором, то есть такой круглой ручкой.
— Напряжение должно быть двести двадцать, — сказал дядя Миша.
Стрелка отклонялась вправо. Но на экране телевизора ничего не происходило. Он по-прежнему оставался серым.
На передней панели были две круглые ручки. На одной был пластмассовый выступ. Дядя Миша покрутил первую, без выступа. Шипение стало еще громче. Значит, этой ручкой прибавляют звук. В комнате поселилось целое кубло гремучих змей. И сидели они в этом большом деревянном ящике. Хорошо, что они не могут выбраться оттуда. Вторая ручка громко перещелкивалась. Видно, что она была тугая и требовала усилий.
По-прежнему ничего не было. Но шипело теперь по-другому, как-то тоньше и громче. Дядя Миша щелкал дальше. На пятом щелке появилось изображение.
Женщина с высокой прической. Говорили, что для такой прически использовали банку.
Она говорила. Отдельные слова были понятные. Мешало то же самое шипение, которое то усиливалось, то затухало. Затаили дыхание.
— У нас же один канал. А тут целых восемь, — объяснял дядя Миша. – Вот мы и нашли этот канал.
Опять прощелкал круг.
— А на втором идет, — сказал дядя Миша. – Значит, у нас второй канал. – Вот здесь он. Что-то говорит женщина. Но не разобрать, о чем она балакает. Сейчас так сделаем!
Не только понять было нельзя, но временами женщина вообще пропадала, и на экране снова рябила серость и телевизор снова шипел. Женщина мелькала и исчезала.
Дядя Миша вытащил штекер антенны, подул на него и воткнул на место, прижал. Усики антенны развел шире. Так гимнастки, лежа на спине, раздвигает свои стройные и худые, как спички, ножки. Стал поворачивать антенну сначала в одну сторону, потом в другую. Все молча наблюдали за его манипуляциями. Надежды на чудо оставалось все меньше. Но оно свершилось. Женщина обрела плоть и внятный громкий голос. Она рассказывала о трудящихся, которые достойно готовятся встретить очередной съезд партии.
— На вышке должны поставить усилитель. Тогда сигнал будет хороший. И телевизор будет принимать два канала, — — сказал дядя Миша. – Сам видел, там рабочие лазят.
У них в доме появился первый телевизор. Передачи начинались вечером. Все собирались перед телевизором.
Сначала шли новости, потом погода, «Спокойной ночи, малыши» и художественный фильм. Все, конечно, ждали фильма, чтобы на следующий день рассказать о нем тем у кого не было телевизора. К началу фильму собирался народ. И скоро, как говорится, негде было яблоку упасть. Приходили из других домов. Вначале это им льстило. Это подымало домочадцев в собственных глазах, выделяло среди других. Но скоро эти вечерние телепосиделки стали докучать. Стульев не хватало. Сидели на полу, ребятишки даже под столом. Фильмы сопровождались комментариями.
Кто-нибудь не выдерживал и шикал на говорунов, которые порой начинали ожесточенно спорить:
— Тихо вы! Не слышно, что говорят.
Соседи, уже само собой, были постоянными телезрителями. Поужинав, они собирались перед телевизором.
Пенсионерка баба Хрестя – это скелет, обтянутый морщинистой пергаментной кожей. Она постоянно курит «Прибой», самые дешевые папиросы по двенадцать копеек за пачку, и надрывно кашляет. Папироску она держит большим и указательным пальцами, как дама из дореволюционной эпохи, и пепел стряхивает себе в ладошку. Комментарии ее к фильмам сводились к одному:
— Вы что думаете, что его в правду убили? Да если бы убивали, то уже ни одного артиста не осталось. Врут всё! Думают, что мы тут уж совсем дураки. Вот вы еще увидите его.
Пытались убедить ее, что это художественный фильм, и, конечно, убивают не взаправду. И все об этом знают. Даже дети. И никакого открытия она не делает. И непонятно, почему она возмущается.
Народ ждал телевизора. Уже через несколько лет было трудно представить советскую семью без голубого окна в мир. Телевизор представлялся чудом прогресса.
Все домашние собирались перед ящиком. Малышню отправляли в постель после «Спокойной ночи, малыши». Кукольные герои стали для них такими же близкими, как мама с папой. Взрослые смотрели новости, где на стройках пятилетки ударными темпами трудился советский народ, империализм – последняя стадия капитализма успешно загнивал, порабощенные народы освобождались и выбирали социалистический путь развития.
Освободившиеся народы Африки, Азии и Латинской Америки с надеждой смотрели в сторону Кремля, где добрые дяди ничего не пожалеют для меньших братиков. Их надежды оправдывались. Широка русская душа, никому не отказывали ни в чем. Генеральный секретарь еще четко и внятно произносил свои речи на пленумах и очередных съездах, каждый из которых приближал страну к коммунизму. Но советский народ почему-то увидев своего верного ленинца сразу торопился переключиться на другие каналы, где смотрел «В мире животных», «Клуб путешественников» и набиравший популярность КВН, шутки которого тут же разносились по всей стране.
Фильмы в основном советские. Многие из них станут классикой. Актеров любили как родных бабушку и дедушку. Были французские и итальянские комедии. Голливуд еще не успел протянуть свои хищные и грязные ручонки со своими тупыми комедиями и мультиками.
Советские – как их называли, мульти-пульти – смотрели даже взрослые. До сих пор это непревзойденные шедевры.
Дисней, который позже придет в страну, будет вызывать у тех, кто вырос на советских мультфильмах, скептическую улыбку. Конечно, техника великолепная, а вот содержание…
Кинотеатры еще заполнялись, и продавались билеты без мест, когда шла индийская мелодрама или французский «Фантомас», на который ученики, что учились во вторую смену, убегали с уроков. Мужчины подшучивали над женщинами, когда шли на новый индийский двухсерийник (ходили же семейными парами):
— Набрали платочков-то?
У женщин такой накал страстей, крутые повороты сюжета, безумная любовь и в конце концов счастливое соединение любящих сердец неизменно вызвали слезы, порой переходящие в бурные рыдания, что древние греки называли катарсисом. Индийские мастера, как никто, владели этим приемом.
В жизни молодого человека наступал провал. Когда он поступал в вуз, то на целых пять лет телевидение исчезала из его кругозора. Урывками, случайно, изредка не считается. Некогда было. Все вечера были заняты. И как-то непрестижно было сидеть перед телевизором. Да и просто телевизоров не было в комнатах общежития. За редким исключением.
Писали конспекты, курсовые, дипломные, читали, ходили на спецкурсы, в лингвокабинет, влюблялись, заводили семьи, рожали порой детей, подрабатывали и редко, когда вспоминали, что есть такой источник информации, как телевизор. Еще и для развлечения.
На первом этаже пятерки напротив входной двери было помещение, которое нельзя было назвать комнатой, потому что для комнаты оно было велико, а для зала не очень большое. Можно было его назвать помещением для отдыха. Там стоял большой телевизор. По большей части он бездействовал. Днем, конечно, никогда не включался. Немного молодежи собиралось по вечерам, побольше, если шел фильм, который у всех был на слуху. Но это случалось не так уж и часто. Несколько раз в год. Вот на субботние дискотеки молодежи набивалось под самую крышу. Порой не протиснешься. Из других общежитий приходило немало студентов, потому что пятерка была самым женским общежитием. Оно и понятно, здесь селились гуманитарии. Проводили собрания. Иногда. В основном собрания шли в какой-нибудь аудитории. Больше народу, побольше аудитория. И для преподавателей удобней.
Вот так или примерно так дело обстояло с телевидением в общежитиях.
Радио в комнатах не было. Видно, кто-то решил, что в студенческих общежитиях оно без надобности. Радиоприемник был аппаратом дешевым и доступным. Это телевизор не всегда купишь и стоил он приличных денег. Одной зарплатой не отделаешься. Проводное радио имелось в каждой советской семье. Разумеется, с одной радиостанцией. Молчало оно только с двенадцати ночи до шести утра. Его не выключали. Разве, что когда смотрели телевизор, то делали тише. Электроэнергии он не потреблял, которая, в прочем, стоило очень дешево. Тем более, домашние приборы только входили в жизнь.
Утро в семьях начиналось с гимна Советского Союза, утренней гимнастики и пионерской зорьки, под которую детишки просыпались и собирались в садики и школы. По выходным шли знаменитые развлекательные музыкальные передачи, которые многие слушали от и до.
Это был постоянный звуковой фон, на который почти не обращали внимания, как мы не обращаем внимания на гул автомобилей, щебетанье птиц и шелест листьев. Выпуски «Здравствуй, товарищ!» слушали многие. Первое время. Это был совершенно новый формат. Нечто необычное. Но студентам и до «товарища» не было никакого дела.
Библиотека общежития выписывала почти все главные газеты. Толстые подшивки постоянно лежали на столах. Их даже не убирали на ночь. Вдруг кому-нибудь приспичит ночью готовить политинформацию. Немало было общественно-политических и специализированных журналов. Стоили они копейки. Особенно политические. Студенты засиживались в читальном зале допоздна, некоторые до утра. Если, к примеру, назавтра обязательно нужно было представить доклад. За хороший доклад можно было автоматом получить зачет или даже экзамен. Некоторые студенты тоже выписывали газеты и журналы. Для стипендии это не было слишком обременительно. Покупали периодику в газетных киосках. Увидеть юношу или зрелого мужчину с газетой или пачкой газет в руках – привычная картина, которая никого не удивляла. В парках на скамейках таких читателей было сплошь и рядом. Для преподавателей и советских и партийных чиновников был допуск к капиталистической прессе. Студентам такое выдавали, только если у них имелось специальное разрешение.
Время от времени в Доме ученых устраивали кинопоказы для посвященных. Некоторые преподаватели потом вставляли в лекции свои впечатления. Не могли сдержаться и начинали рассказывать про какой-нибудь западный фильм. Тогда студенты боялись пропустить слово. Рассказывали, разумеется, с критических позиций. А студенты в это время давились слюной. Время от времени в городке проходили недели зарубежного фильма: французского, итальянского, скандинавского. Шли комедии, драмы, классика. Политики там никакой не было. Почти никакой.
Свое дело цензура знала. Но загнивающий Запад раскрывался во всей своей прелести. Привлекательной. Шикарные автомобили, красивые чистые города, роскошные отели. Другой мир, другая планета, иногда почти сказочная, так непохожая на карикатурную. Много было героев, милых и трогательных. Даже польское кино поразило. Это что же у них за социализм такой, какой-то совсем непохожий на наш. И еще там говорили о пороках жизни, о которых у нас не было принято говорить. Например, что маленькие зарплаты, что женщины могут жаждать секса.
«Вражескими голосами» называли западные радиостанции, которые вещали на Союз на русском и других языках. Слушали их, если и не поголовно, но всякий, имеющий радиоприемник. Про газету «Правду» говорили, что в ней нет правды, а в «Известиях» нет известий. Получать информацию из них это признак замшелости. Не то, чтобы не верили, но знали, что там всё тщательно дозированно и о всем неприятном молчок. Ссылка на советские газеты ничего, кроме презрительной улыбки, не могла не вызвать. Даже лекторы-гуманисты пытались не называть советских газет. А если и называли, то призывали читать между строк, то есть находить ту информацию, которая содержалась в сухих словах официальных отчетов. Широкой публике было непонятно, какой подтекст можно обнаружить в выступлении Генерального секретаря на очередном пленуме ЦК КПСС или в словах передовой доярки на отчетно-выборном собрании. И не заморачивались такими поисками.
«Голоса» глушили. Вы крутили ручку настройки, и когда проволочный бегунок, приближался к вражескому берегу, в динамике начинался треск, как будто трещал ледок на замерзших лужах, когда по ним шагаешь. Чем ближе к берегу, тем сильнее треск. Пробивался голосок, женский или мужской. Иногда можно было понять даже отдельные фразы. Но бывали такие моменты, что слышимость была почти на уровне. Чистый русский литературный язык, никакой фени, подросткового выпендрежа. Такое впечатление, что на «голосах» работали филологи, не менее кандидата наук. Но ничего удивительного. Действительно в зарубежных радиостанциях, вещавших на Союз, работали мигранты с высшим образованием, и доктора наук, и были даже академики.
Советов о том, как глушить глушилки было множество, от самых простых до фантастических.
Советовали слушать «голоса» по ночам, с такого-то по такое время. Тогда почти чисто. Глушильщики в это время теряют бдительность или у Земли какой-то в это время поворот особый, а поэтому сигнал наиболее сильный, а мощность глушилок напротив падает. Предлагали конструкции разных простых глушителей глушилок. Были очень сложные. Ходили слухи, что мастера изготавливают антиглушилки из очень дефицитных деталей. Никто не видел ни этих глушилок, ни их мастеров.
Лучше всего брали волну старые проигрыватели, громоздкие с деревянными боками, покрытыми светлым лаком. Они занимали почетное место на комодах и тумбочках.
Хороши были рижские приемники, небольшие и стильные.
Ходили слухи, что наиболее активных слушателей и распространителей того, что передают по «голосам» отслеживают органы, а самым-самым шлепают статью «антисоветская агитация и пропаганда, распространение слухов, порочащих социалистический строй и советский образ жизни» и отправляют их на несколько лет на заготовку бамбука в сибирской тайге. Кто-то считал, что это просто страшилки.
Тогда от сибирской тайги через несколько лет ничего бы не осталось, кроме пеньков.
Полстраны уж точно, пусть и непостоянно, но прислушивались к «голосам». Кто-то верил, кто-то считал брехней. И лекции лекторов общества «Знания» представляли бы нудную озвучку передовиц «Правды», если бы не оживлялись информацией, почерпнутой из «голосов», бесед с дипломатами и чиновниками, которые бывали за бугром и не все подряд ругали, что видели собственноглазно. К этому еще можно добавить впечатления от просмотра иностранных хроник и голливудских фильмов, которые крутили в спецкинозалах для посвященной публики.
У историков-второкурсников как-то вспыхнул спор: обязательно ли подписываться на «Правду», центральный орган ЦК КПСС, если ты состоишь в этой самой КПСС.
Коммунист Володя Бобышкин считал, что необязательно. Володя был низенький, ростом с семиклассника. Но плотный, широкоплечий. Чувствовалась в нем какая-то крестьянская сила. Резкий большой нос выдавал в нем всё-таки зрелого мужчину, который кое-что знает о жизни и понимает в ней. Производил он впечатление человека, много повидавшего на веку. Он отслужил в армии, отучился на рабфаке, где и вступил в партию. Рекомендацию ему дал сам первый секретарь райкома партии. Он был поразительно застенчивый и говорил тихо и монотонно. Чтобы его услышать, нужна была полная тишина. не повышал голоса, не смеялся, только иногда возникала легкая улыбка, какая-то извиняющаяся: вроде, ну, что вы хотите. Носил большие черные очки. Ходил в костюме даже в общежитии. Некоторые говорили, что он и спал в костюме. На лекции обязательно белая рубашка и галстук. Уже в это время он начал лысеть. Волос у него был жидкий и серый. Девушки к нему интереса не проявляли, для них он был в разряде замухрышек, которые как мужчины совершенно ни к чему. Достаточно было с ним немного пообщаться, чтобы понять, что праздников плоти, безудержного веселья, розыгрышей от него ожидать не приходится. Какой-то автомат, неказистый и неинтересный. Женщины это сразу чувствуют, после чего этот человек для них просто перестает существовать. С ним можно пообщаться, что-то обсудить, но не более того. После университета Володя станет третьим секретарем по идеологии в райкоме партии. Район был в основном сельскохозяйственный и недалеко от областного центра. После женитьбы года два спустя повесится. Говорили, что не выдержал измены жены. Он никак не мог поверить в то, что близкие родные люди могут предать.
Володя – ортодокс. Ранее таких называли пламенными большевиками. Неожиданно он заявил, что на «Правду» — главный официоз коммунистической партии совсем необязательно подписываться. Даже членам партии. Это совсем не является нарушением партийной дисциплины.
Коммунист может подписаться на то, что ему интересней: на «Труд», «Известия» или «Комсомольскую правду». Все газеты в нашей стране проводят линию коммунистической партии.
Против него выступил Женя Добросклонов, который иногда между «битлами» слушал «вражеские голоса». Все его считали либералом и чуть ли не оппортунистом.
— Как не подписываться? – возопил он. – Если ты член партии, ты обязан выписывать центральный партийный орган. Опять же, подписываясь, ты и финансово поддерживаешь газету, как коммунист. Ведь в ее бюджете в том числе и деньги от подписки.
Все уставились на Женю.
— У каждой газеты свое лицо. У «Комсомолки» оно молодежное. «Известия» нацелены на информативность. Да! А «Правда» — это прежде всего официоз, это партийные и государственные документы.
— Я плачу ежемесячные взносы, — сказал Бобышки.
— Взносы взносами, — возразили ему. – Про уплату взносов даже в уставе партии записано. «Правда» — это твоя газета. Она должна быть постоянно на твоем рабочем столе. Это, так сказать, твое идеологическое оружие, последняя инстанция в любом споре. Когда ты идешь на встречу с трудовым коллективом, она у тебя в руке. Пишешь доклад, она у тебя перед глазами.
— Необязательно! – нисколько не волнуясь, возразил Бобышкин. – Всё это лишь формальная сторона дела. Газеты в нашей стране поддерживают линию партии. Все, без исключения. Редакторы изданий назначаются партийными комитетами и отчитываются перед партией. Они обязательно коммунисты. И цензуры у нас никто не отменял. Конечно, это совсем не та цензура, что была в царские времена. Но она есть.
В споре о «Правде» Бобышкин занял необычную для партийного ортодокса мягкую позицию. Но в отношении Солженицына он был непримирим. Для него это был враг. Все кричали, что нельзя осуждать писателя, произведения которого мы не можем прочитать. Почему власти так боятся, что мы можем прочитать его книги.? Прочитал и сразу стал врагом? Тихим голосом, но твердо Володя говорил, глядя как-то на всех сразу:
— Разве партия будет врать? А представьте, если бы в годы войны у нас печатались немецкие листовки, которые предлагают нашим бойцам сдаваться в плен? Давайте покончим с диктатурой Сталина, евреев-большевиков, рейх несет народом страны свободу. Мы распустим колхозы, разрешим частную собственность, все вы свободно вздохнете. Сдавайтесь в плен! Вас накормят, вылечат, выдадут настоящую одежду. Сколько нашлось бы слабых и доверчивых, которые бы поверили немцам и сдались в плен. Да и предателей бы оказалось немало, негодяев разного рода. Вы можете такое представить? Нет! И я тоже не могу. Печать – это тоже оружие.
— Причем тут Солженицын? – кричали ему.
— Как причем? – удивился Бобышки. – Вы что, ребята? Разве это непонятно? Ведь всё же очень просто. Он оправдывает власовцев, считает их чуть ли не патриотами, клевещет на нашу страну на каждом шагу. По нему получается, что у нас только и делали, что сажали и расстреливали. Мы его печатаем, продаем и роем сами себе могилу. Именно этого и хочет Запад, когда кричит о свободе слова, который якобы у нас нет. Тогда уж и Гитлера печатать надо. И того же Власова.
— Ну, ладно, — вяло согласились с ним. – Гитлера, конечно, печатать не надо. Власова тем более. Зачем на трибуну выходит колхозница и на всю страну заявляет, что, конечно, она не читала Солженицына, но считает правильным, что его выслали из страны?
Таким не место в наших рядах, потому что он позорит нашу страну, идет на поводу у западных спецслужб?
— Что тут такого?
Володя пожал плечами.
— Она же говорит не о художественных достоинствах писателя, но об его общественной позиции, которая, конечно, достойна осуждения. Разве это непонятно? Для этого совершенно необязательно читать его произведения. Я уверен, что многие члены Политбюро даже в руки не брали его книги. Не читаем же мы «Майн кампф». Но никому в голову не приходит в голову по этой причине оправдывать Гитлера.
— Да.
Согласились с ним. Но как-то вяло. Вон ведь и «голоса» смеются над колхозниками и сталеварами, которые клеймят Солженицына.
Этот год можно было назвать солженицынским. Это был звездный час писателя.
Неизвестный писатель должен быть благодарен власти за такую рекламу. Теперь его знала вся страна.
Государство сделало всё, чтобы о нем узнали все и везде. Современные рекламные агентства могут отдыхать. В самых отдаленных чумах Чукотки говорили о писателе. Все газеты и журналы писали о Солженицыне. Даже узкопрофессиональные. По всей стране лекторы рассказывали о нем. На телевидении и радио – везде Солженицын. От него нигде нельзя было спрятаться. Даже верующие не поминают столь часто имя Господа, сколько советские граждане поминали его. Миллионными тиражами выходили брошюры о нем. Высоколобая рожа с козлиной бородкой многим являлась в снах. Партийные, комсомольские, профсоюзные собрания специально посвящались Солженицыну. Леонид Ильич, наверно, завидовал ему.
Вражеские голоса теперь денно и нощно говорили о Солженицыне и читали его произведения. Местами. Там, где изображались ужасы сталинской эпохи: репрессии, бездарность командиров. Советский народ перекормили Солженицыным. Уже его фамилия вызывала аллергию и ассоциировалась с чем-то мерзким. Вся история нашей страны – это история ГУЛАГа, так выходило по Солженицыну.
А там только расстреливали, пытали, гнобили по лагерям, доносили друг на друга. Все и на всех. Одни арестовывали, пытали, расстреливали, другие потом тех, кто арестовывал, пытал и расстреливал, арестовывали, пытали и расстреливали. Вот такой круговорот. Или проще говоря, каша мала.
Как-то между расстрелами и пытками, страна индустриализировалась, коллективизировалась, выиграла войну, восстановилась, слетала в космос. Но это же так всё! Мелочовочка, недостойная внимания гигантов мысли и пера. Вся земля на десятки метров вглубь пропитана кровью сотен миллионов уничтоженных людей.
Запад выл от восторга. Еще никто с таким размахом не опускал, не затаптывал, не заплевывал ненавидимую им страну, которая кроме ада на земле, империи зла и рашки иначе и не называлась. И еще кто-то смеет после этого вякать, когда говорят, что всё это должно быть уничтожено атомными и термоядерными бомбами. Под чистую!
Если бы этот бородатый дядька вылез из водопроводного крана, домохозяйки нисколько бы ни удивились, но тут же забили бы сковородками и всем, что попадется под руку. Настолько он всем обрыдл.
Но человеческая натура и советский оптимизм отказывались признавать это.
На барахолках, книготочках ротапринтные распечатки «Архипелага ГУЛАГа» расходились влёт. Печатались они на плохой серой тонкой бумаги. Такая годилась на самокрутки. Говорили, что находились такие подвижники, которые переписывали от руки многосотстраничные солженицынские опусы. С воспаленными от бессонницы глазами они, как сомнамбулы, отправлялись на работу. Писатель должен быть благодарен советской власти, которая сделала его знаменитым в Советском Союзе. Еще никого и никогда так не рекламировали, ни о ком ни написали столько пропагандистских брошюр. Он, неблагодарный, крыл эту власть на все корки. Ну, и что можно сказать о духовно-нравственном облике этого человека? Делай после этого людям добро! Бывают же такие твари неблагодарные! Хоть бы сквозь зубы «спасибо» буркнул.
Уже в эпоху так называемой гласности и перестройки ее трубадуры на всех углах будут дудеть о свирепости КГБ, которое \хватало чуть ли не всех подряд, зверски пытало в мрачных казематах, отправляло в мордовские лагеря тех, кто потом станет светилами мировой художественной литературы. Книжные прилавки заполонила диссидентская литература. Обалдевший от пропаганды народ бросился скупать ее, но вскоре разочаровался. Какой-нибудь Кочетков или Павло Загребельный по сравнению с ними выглядел титаном художественного слова. Но в те времена самиздат, которым торговали даже в общественных туалетах, шел по бешенной цене. Скупали писателей-невозвращенцв, извращенцев, типа Захер-Мазоха, «Кама-сутру», пособия по ушу. Некоторые предприимчивые молодые люди сами бросились сочинять всякий бред, выдавая всё это за диссидентскую литературу. На всех углах обсуждали прочитанное. Но почему-то никого не хватали под белы ручки, не заталкивали в «воронки» и не везли в подземные казематы и пыточные камеры. Рядовые обыватели, по крайней мере, этого не замечали. А прочитав десяток – другой страниц «Архипелага ГУЛАГа», советский человек с тоской смотрел на увесистый том и с тоской подсчитывал, сколько бы вышло пива. Получалось очень много. Даже с ершом. Даже если приглашать друзей на халяву.
После этого наш советский гражданин не возвращался к творчеству гиганта русской литературы. Чего стоили только авторские неологизмы, толстовские периоды на несколько страниц, имена героев, которые никогда не услышишь в жизни, эти бесконечные всхлипы и филиппики в адрес сатанинской власти, которая почему-то ему обывателю была по барабану.
Пропадала всяческая охота после этого читать заполонившие все книжные магазины опусы многочисленных эмигрантов; солженицыных, аксеновых, владимовых и проча, и прочая, м прочая, которые даже до пояса не доросли тех писателей, что никуда не уезжали: Распутину, Абрамову, Белову, Шукшину. Но в расфуфыренной среде советским читателям представляли их мелкими шелкоперами, которым куда уж до олимпийских вершин диссидентов.
Одной – двух передач на «вражеских голосах», где читали Солженицына, было вполне достаточно, чтобы отбить всякую охоту к дальнейшему прослушиванию. Тексты великого правдолюбца действовали как зубная боль.
Профессор Знаменский у Булгакова говорил: «Советская власть хорошая, но глупая». Это как раз был тот самый случай, когда власти делали всё возможное, чтобы навредить себе. Сделать из писателя средней руки звезду мирового масштаба, разбудить интерес у миллионов людей к его произведениям, предоставить ему бесплатно самолет для вылета на Запад, где его ждали всевозможные премии, гранты, награды, ордена, беспрерывные интервью, встречи с президентами и королевскими семьями, переводы чуть ли не на все языки мира, такие тиражи, о которых можно только мечтать, и, конечно, слава, которой позавидовала бы любая голливудская звезда. На явление Солженицына смотрели как на сошествие живого бога. Продолжалось это недолго. Бесконечное монотонное бу-бу-бу вскоре всем надоело, и герой отправился в «вермонтское заключение». Теперь на него смотрели как на помешанного. Что ему оставалось делать? Обиженный, он стал подковыривать уже Запад, ершиться и петушиться, надеясь, что смена темы поможет сохранить ему звездность. Прихлопнуть его, как комара, было невозможно. Это тебе никакой-нибудь Вася Пупкин, а мировая известность. Приходилось мириться. Поэтому покрутили пальцем возле виска и забыли. Постарались забыть и не обращать внимания на его вопли. Читателям тем паче уже изначально он был неинтересен. И новые его многосотстраничные талмуды пылились на книжных полках. Возвращение на Родину, из которого он опять постарался сделать шоу, всё-таки отрезвило его. Капиталистический рай оказался адом для России. Кругом воровали, грабили и убивали.
Увидел, что наделали с его родиной светочи демократии. Хотя и он тоже приложил к этому руку, призывая разрушить проклятое коммунистическое общество. Пытался говорить, убеждать, стать новым a la Лев Толстой последних лет жизни, метал громы и молнии, вразумлял невразумляемых правителей, взывал к их совести. Никто его не слушал и никого он уже не впечатлял. Роль пророка не получилась.
20
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Отрывок из сценария на праздник получения паспорта
На сцене девушка и юноша с эмблемами на белых блузах.
ДЕВУШКА
Во имя ленинских идей
Под наше партийное знамя
Встают легионы отважных людей
С советскими паспортами.
ЮНОША:
Ну, что бы, казалось, — книжица малая…
Но паспорт, словно присяга бойца,
Силой и гордостью небывалою
На целую жизнь согревает сердца!
ДЕВУШКА
Шестнадцать лет и мало, и много.
Вчера я, как будто, девчонкой была.
Сегодня другое – большая дорога
В прекрасную жизнь пред тобою легла.
ЮНОША
И думай – как пройти, не петляя,
Этапы такого большого пути,
Как честь гражданина страны не пятная,
Почетное званье сквозь жизнь пронести.
Гаснет свет, вспыхивает киноэкран. Демонстрируются фрагменты из кинофильма «Я – гражданин Советского Союза». (Производство экспериментального творческого объединения студии «Мосфильм»).
Во время кинофрагмента на сцене устанавливаю стол, вокруг которого стулья по количеству приглашенных вручать паспорта. Это представители партийных и советских органов, ветераны Великой Отечественной войны, герои пятилеток. По диагонали стулья шестнадцатилетним.
На сцене группа из агитбригады.
ПЕРВЫЙ
В науке, в технике, в литературе,
Веленья дня врываются, как бури.
День и ночь я трудиться готов.
Каждой жизни положен предел.
Но пока не настал этот миг,
Будет сердце мое клокотать,
Словно щедрый, кипучий родник.
Клятва шестнадцатилетних:
ЮНОША: Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, клянусь:
Отдать свои силы и энергию на благо Советской Родины!
ВСЕ: Клянемся!
ДЕВУШКА: Клянемся любить свою Родину и свой героический народ, беречь великие завоевания старшего поколения.
ВСЕ: Клянемся!
ЮНОША: Клянемся учиться и строить, как завещал великий Ленин, соблюдать советские законы, дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, быть в первых рядах строителей коммунизма.
ВСЕ: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Все под марш спускаются в зал.
Выносится Знамя.
Гаснет свет, на киноэкране – мастер художественного слова Всеволод Аксенов читает стихи Маяковского о советском паспорте (кинофильм «Мастера художественного слова»). На фоне песни И. Дунаевского «Песни о Родине» проходят картины нашей Родины.
Во время кинофрагментов со сцены выносятся стол и стулья.
На сцене вокальная группа исполняет песню «Страна моей мечты» С. Туликова на стихи Н. Добронравова.
Родина моя,
Страна моей мечты.
Былинные края
Добра и красоты.
И нет земли на свете родней.
И всё светлей
Песня Родины
В душе моей.
ВЕДУЩИЙ. Наш герб отпечатан на паспорте каждом,
На каждом серебряном звонком рубле.
Вглядись в этот герб,
И тебе он расскажет
Всю правду о нашей Советской стране.
ВЕДУЩАЯ. Колосьями он золотым оправлен,
Плодами труда миллионов людей,
Труда, что не только Отчизной прославлен,
А признан великой планетою всей.
ВЕДУЩИЙ. На паспорте нашем герб мира и славы,
Мы с гордостью носим на сердце своем
Мандат гражданина великой державы,
Бесценную книжку с советским Гербом!
Исполняется песня «В земле наши корни», муз. А. Пахмутовой, слова Е. Долматовского.
В земле наша правда, в земле наши корни,
И сила в плечах от лугов и полей.
Земля и оденет, земля и накормит,
Ты только себя для нее не жалей.
ЧТЕЦ. Мы сами куем свое счастье,
Спокойны, мудры, сильны,
Мы все представители власти,
Хозяева чудо-страны.
И море пшеницы отменной,
И новая плавка в цехах,
И новые тайны вселенной –
Всё в наших рабочих руках.
Мы – первая в мире держава,
Восставшая к солнцу из тьмы…
Октябрьской Партии – слава!
Народу советскому – слава!
И это – не что-то, а мы.
Мы сами куем свою славу –
Из стали крепчайшей куем,
По самому высшему праву
Мы гордые песни поем.
Великая сила народа
Взрастит на земле коммунизм.
Работа,
работа,
работа –
таков наш победный девиз.
Далее могут исполняться концертные номера – подарки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Фотостенд «Человек ищет себя» о тех, кому сегодня шестнадцать, может состоять из 4-х разделов.
I – «Учеба – главный труд молодых».
II – «Наравне со старшими», о работе на полях и фермах колхоза в свободное от учебы время.
III – «Готов к труду и обороне» — о значкистах, о спортивной жизни молодых.
IV – «Отдых – дело важное» — об участии в художественной самодеятельности, шефстве над пионерами, об участии в озеленении, о посещении библиотеки, театра и т.д.
21
ПРОЩАЙТЕ ДОЛГИ ВАШИ!
Это слово очень интересное. В нем сразу два противоположных смысла. И только в контексте можно понять, что имеется в виду. Слово-антоним: «занимать» — давать деньги в долг и «занимать» — брать в долг. Поэтому, если просто скажите: «Я занял сто рублей», то можно понять и этак, и так. «Дать в долг без отдачи» — это выбросить деньги на ветер. «Даешь руками, а берешь ногами», поэтому лучше не одалживать. «Плохой на отдачу». Что там еще? Долг платежом красен. Бывают люди, которые никогда ничего не отдают. Но самое интересное, что им продолжают давать. А другой шелуху от семечек вернет, а ему не занимают ни в какую. Брать без отдачи – это такая мягкая форма грабежа. Или беспредельщины. Вы почти счастливы, что сделали человеку добро, а потом до вас доходит, что вас элементарно кинули. Кинуть, обмануть, надуть, обнести, оборзеть, «а нечего клювом щелкать» — это о тех добрых натурах, которые ведутся и дают в долг без отдачи.
То, что вам больше нравится, то и выбирайте.
Миша только брал. Брал, разумеется, без отдачи. И тем не менее поборы у него были регулярными. Он не занимал, потому что никогда не отдавал. Наверно, это нужно назвать каким-то другим словом. Сказать, что он «кидал», «надувал», тоже нельзя. Делал он это легко и с добровольного согласия другой стороны. Хотя по большей части те, кто давал, знали, что он не отдаст. Миша не был способен кинуть, тем более надуть. Он не способен был на обман. Не то, чтобы он никогда не врал. Напротив, врал он постоянно, но легко и красноречиво. Если он и обманывал, а он все-таки делал это, то обманывал по-детски непосредственно, наивно, и ни у кого язык не поворачивался назвать его обманщиком. Миша и обманщик? Да вы что! У него же душа ребенка! Чистая и открытая! Не будете же вы обвинять в обмане карапуза, который с выпученными глазами и брызгая слюной будет вам самозабвенно рассказывать, что он только во дворе видел самую настоящую Бабу-Ягу?
Миша – сказочный принц из «Тысячи и одной ночи». Девушки из его группы рассказывают про него фантастические вещи. Что он пачками затаскивает наивных девчонок в свой вертеп и творит там такие с ними вещи, что даже язык не поворачивается рассказать об этом. Вахтерши и вахтеры им подкуплены. Стоит любой красавице сказать: «К Мише!», как перед ними угодливо распахиваются двери. Встречают чуть ли не с поклоном. Никаких документов не требуют. Даже свидетельства о рождении. Что является грубейшим нарушением общежитского распорядка. Скорей всего, это вранье. Или точнее, преувеличение. Вахтеры и вахтерши, действительно, были очень благосклонно настроены к Мише. Остальное же гипербола. Есть русские богатыри. Почему бы и не быть восточным богатырям? А богатырей любят. Миша – богатырь и красавец. Глаза с восточной поволокой. Ростом за два метра. Чуть ли не с пеленок занимается классической борьбой. И гопники никогда не решаются у него просить закурить. И вообще обходят стороной. Наглость не всегда отрицает разумность.
В «пятерке» Миша на привилегированном положении. Еще учась на рабфаке, он получил отдельную комнату в конце коридора. Такой привилегией пользовались только аспиранты и семейные. Если бы среди студентов были лауреаты Нобелевской премии или племянники членов Политбюро, и то они не могли бы рассчитывать на подобное. Комната на четверых, а для старшекурсников – на двоих. Что сразу бросалось в глаза каждому, зашедшему в Мишину комнату, это поистине султанская кровать, занимавшая почти всю комнату. Оставалось лишь место для стола у окна и пары стульев. И прикроватная тумбочка, само собой. Это были две однушки, сдвинутые вплотную. Даже у самого наивного юноши, попавшего в Мишину комнату, возникали в воображении картины восточных оргий, плотских утех эмиров и султанов с прекрасными гуриями. Не меньше удивления вызывал и холодильник, который втиснулся в самый угол возле стола. Холодильники были только на кухне. В студенческих комнатах, во-первых, не положено, а во-вторых, и было бы положено, так на какие мани-мани. Даже при самом богатом воображении представить холодильник в студенческой комнатушке было невозможно. Кто-то даже протягивал к холодильнику руку, чтобы убедиться, что это не галлюцинации.
Стипендии Миша не получал. И само это слово было для него далеко и чуждо, как туманность Андромеды. Но к его счастью, многие другие получали стипендию. Некоторые даже повышенную. Было непонятно, как Миша вообще держится в университете, сдает зачеты, экзамены, правда, с многочисленными хвостами, пересдачами, объяснительными в деканат, искренними заверениями, что с этого дня он… да они не узнают даже его…
Как все, Миша, когда придет время, получит диплом.
На первой паре его обычно не бывало. Всем было понятно почему: и студентам, и тех, кто учил студентов. Обычно появлялся к концу первой пары. Мягко ступая, проходил в конец аудитории, улыбаясь всем и никому, садился, делал вид, что внимательно слушает и конспектирует, а потом засыпал. Но делал это по-восточному очень деликатно.
Со стороны, по крайней мере, с кафедры, понять, что он спит, было довольно трудно. К тому же для многих преподавателей содержание лекции гораздо важнее, чем реакция студентов.
Сидит студент, козырьком ладони прикрыл глаза – жест, означающий, что он глубоко задумался – и что-то пишет. Для преподавателей в радость видеть таких студентов. Товарищи по группе понимали, что у Миши была очередная бурная восточная ночь. Двое одногруппников ему завидовали. А девушки негодовали, но в душе.
Никогда и никому Миша не рассказывал о своих похождениях, не называл имен, даже намеков не делал. Это для него было табу. И когда речь заходила о девушках, он деликатно молчал. Все девичьи рассказы об этой стороне его жизни складывались из домыслов, фантазий и явного гиперболизма, что вообще характерно для женской натуры.
Миша исчезал порой на день, на два, на неделю. Это значит, что он уезжал на сборы или на соревнования. Спортсмены в вузах всегда ценились, поскольку их победы добавляли славы вузу. Это пропуском не считалось. Всё же защищает честь университета. И можно в обкоме партии отчитаться о спортивных достижениях и славных победах. Конечно, это знаний студентам-спортсменам не добавляло.
К каждому зачету или экзамену Миша приходил со стопкой листов, исписанных бисерным почерком. Это были белые листы, на которых печатали машинистки. Почерк был его. Проверяли. На листках были ответы на вопросы зачетов или экзаменов. По порядочку, к каждому билету, в строгой последовательности. Потом на экзамене он находил нужный листок и с ним отправлялся для ответа.
Деньги имеют свойство ходить по рукам и не прилипать к ним. За редким исключением. От покупателя к продавцу, от того, кто занимает и кто отдает долг, от кассира заводской кассы в мозолистые руки заводского пролетариата. В университетской кассе – к студентам, аспирантам и преподавателям с обслуживающим персоналом. В студенческой среде денежный оборот происходит быстро. Иногда деньги исчезают за день. У бережливых хватает на неделю. Редко кто растягивает на месяц. Выручали домашние припасы, строгая экономия на всем и жесткая диета.
Спрашивать вернуть долг как-то считалось зазорным. Боишься показаться жадным. Ценилось гусарство, этакое расшвыривание денег. Ничего не жалко, всё до копейки спущу! Пошел в РЗД (так звался ресторан «Золотая долина») и за вечер спустил всю стипендию. Разумеется, с парой-тройкой друзей и незнакомыми юными дамами. Тогда тебе, братан, уважуха и респект. Широкая русская натура, ничего для друзей не жалко. О таких рассказывали, истории передавались от поколения к поколению, и на таких смотрели восторженно, как смерды на Илью Муромца, который в любое время готов положить душу за други своя. А деньги что? Мусор! Такое случалось крайне редко. Но случалось. Большинство выбирало золотую середину.
Поскольку потребовать вернуть долг было не комильфо, старались не давать в долг. Или давать, скрепя зубами, когда уже отвертеться невозможно. Так сказать, взяли за горло.
Не припомнятся такие, кому бы стипендии хватало от одного получения до другого. Может быть, они и были, но, значит, слишком таились и на общем фоне были незаметны. И какие же нужно иметь способности, чтобы благополучно существовать от стипендии до стипендии!
Многим приходилось выходить, как говорится, с протянутой рукой. Причем, в прямом смысле. Это было потрясением для новичков. Но вскоре каждый из них делал величайшее открытие для себя. Сначала изумлялся, потом смирялся, потом сам становился таким же. Денег-то, оказывается, ни у кого нет. Непонятно, как ездят в автобусе, кушают в столовой, покупают шмотки время от времени и отмечают праздники. А еще некоторые ходят в кинотеатр. Кто-то даже признавался, что побывал в зоопарке. А еще и покупали общие тетрадки, книжки, а девушки и косметику.
Миша брал деньги в долг, разумеется, без отдачи, виртуозно, с ловкостью фокусника. Может быть, он знал какой-нибудь магический заговор или владел гипнозом. Те, кто ему давал в долг, тут же начинали раскаиваться и недоумевать, как же это вышло, ведь не давать Мише в долг, стало их жизненным принципом, одним из столпов мироздания. Какой же черт их подтолкнул в бок? Что за наваждение?
Все кругом говорили одно и то же, что Миша деньги, взятые в долг, никогда не возвращает, что скорей Дунай со всеми другими реками и их притоками потечет вспять в горы, а небо со всеми звездами и луной упадет на землю, чем Миша отдаст долг. Сравнение было слишком красочное, пышное по-восточному и скорей всего исходило от самого Миши. Но давали и даже уговаривать особо не требовалось. А потом спохватывались. А тут даже уговаривать не потребовалось. Миша как бы между делом, мимоходом, как о чем-то незначительном спросил про деньги и даже не пообещал, что вернет, а рука уже сама, предательница, нырнула в карман и вытащила оттуда и протянула пятерку, денежку, на которую возлагались такие надежды. Всё рухнуло вмиг, какое-то помутнение сознания, что-то похожее на гипноз и даже колдовство. Миша ухе уходил в прекрасное далеко своей упругой походкой барса, бросив несчастную жертву, растерянную и вопрошающую себя «Что это было сейчас?»
Не всегда так получалось. Стоит студент у кассы за сорокарублёвой стипендией, а в коридоре его уже поджидает однокурсник или однокурсница, с горящими от голода очами. А богатое воображение рисует обед в студенческой столовой, где и первое, и второе, и десерт. Как тут откажешь в какой-то десятке? Кем ты будешь после этого? А если твой товарищ на этом же самом месте скончается от голодных колик? Ты же потом всю жизнь будешь винить себя и посыпать голову пеплом, считая себя последним злодеем.
Или в магазине. Пошел ты в магазин, а твой безденежный товарищ ходит с тобою рядом, чуть ли не под ручку. Он голоден и верит в человеческую доброту и справедливость мироустройства.
Купил себе тапочки. А товарищ твой пересчитывает в потной ладони медяки. Какой-то пятерки не хватает на тапочки. А как без тапочек в общежитии? Без тапочек никак! Какое же сердце не дрогнет! И дашь в долг безвозвратный, но с горячими уверениями, что как только, так сразу, век воли не видать, да честней человека еще не бывало.
Думать, что Миша был беспринципным человеком, совершенно неправильно. Поэтому иной раз у него случались осечки. По его вине. И он нисколько не стыдился этого. В первом семестре первого курса, когда дали стипендию (а Миша, напомним, никогда ее не получал), он отправился, как он сам говорил «волка ноги кормят», на счет у кого-нибудь что-нибудь подзанять. Студенты, получив стипендию, теряли всякую бдительность, чувствовали себя чуть ли не миллионерами и несколько денежных купюр представлялись им неслыханным богатством. Появлялся Миша. Конечно, совершенно случайно, как lupus in fabulis, волк из басни. Ведь волка же ноги кормят. И не надо было обладать особой проницательностью, чтобы знать, где деньги пахнут.
— Привет! Как дела?
То сё, третье – десятое. Миша говорил на отвлеченные темы, и жертва теряла всякую бдительность. Миша улыбался, был сама благожелательность. У жертвы создавалось впечатление, что для Миши он самый близкий человек. Если понадобится, то он пойдет ради тебя в огонь и воду, ценой собственного здоровья, а, может быть, даже жизни спасет тебя. Так между делом, как о чем-то мелочном, досадном:
— Ты на пару дней десяточку не займешь?
Занимали. Но порой бывали осечки. Иногда и хищник промахивается и упускает жертву.
— Миша! Так я тебе уже пару раз занимал, — усмехнулся второкурсник. – И всё никак не могу дождаться отдачи. Мне ты уже двадцать рублей должен. И тоже на пару недель говорил. А уже пара месяцев прошло. Мне, конечно, не жалко десятки, но…
Миша удивлялся, потом расплывался в широкой улыбке. В ней были детская непосредственность и восточная хитрость.
— Отдам! Сразу же всё и отдам!
Но понятно, что это уже не проходило. Миша чувствовал, что тут уже ничего не обломится. И нужно искать другую жертву.
На этот раз он натолкнулся на Толю, который вышел из комнатки, где была касса.
— Дружище! Ты говорят на семинаре по философии такой доклад прочитал, что Фофанов чуть ли не до потолка прыгал. Теперь ты у него в любимых студентах будешь ходить. У нас ты самый умный в группе. Да-да! Это честно! Никакой лести! Да я и льстить не умею.
Толе несколько неприятно было такое. Ничего сверхъестественного он не совершил. И всё-таки это приятно, когда говорят с таким воодушевлением, искренностью. Толя пожимал плечами, морщился, застенчиво улыбался, но остановить Мишу не мог.
Миша не был бы самим собой, если бы тут же не нашел жертву. Он был хороший охотник. Это был, как сказали бы старушки, лядащий второкурсник. Худой, несуразно сложенный. Он был сгорблен и меланхоличен. Но всё же полученная стипендия озарила его облагороженный лекциями и семинарами лик слабой улыбкой. Конечно, не в деньгах счастье. Но когда они есть как-то легче ощущать себя счастливым.
Миша положил свою медвежью лапу ему на плечи. Знак особого расположения, который нельзя не почувствовать. Второкурсник еще больше прогнулся в спине и коленях, как будто ему на плечи забросили не руку, а мешок сахара. Причем сделали это без спросу. Лицо Миши сияло, как пряжка солдатского ремня перед приездом генерала. Со стороны любой бы решил, что он встретил самого лучшего друга. И с этим другом он хоть куда, хоть в разведку, хоть на необитаемую планету. Хоть сейчас. А если будет такая нужда, то готов и пожертвовать ради наилучшего друга, чем угодно.
Миша уже разливался соловьем: как он рад встрече, как долго они не виделись, как он изменился. Словно сто лет прошло! И вопросы задавал такие, что любому приятно их услышать! Как продвигается твоя дипломная работа? Уже, наверно, на докторскую замахнулся? О тебе только и говорят в научных кругах и пророчат тебе великое научное будущее. Говорят, на заседании ученого совета несколько раз вспоминали тебя. А сейчас над чем работаешь? И тому подобное. Второкурсник млел и не мог вставить ни одного слова. Бдительность он утратил окончательно и забыл, что Миша уже должен ему. Да и кто в день стипендии вспоминает о долгах? Как бы между делом, как о незначительном пустячке, не стоящим никакого внимания, спросил: а не займет ли он ему десяточку, так на парочку дней, позарез нужно. Через пару дней он, Миша, кровь из носу, непременно отдаст. Честное комсомольское!
Сейчас край нужно! Просто погибель, если не будет десяточки! Вопрос жизни и смерти! Тот, кто откажет ему в десяточке, станет виновником его гибели и всю жизнь будет проклинать себя за это! Ругать себя последней жадиной и убийцей прекрасного человека. Светлый Мишин лик будет являться ему во снах и презрительно укорять: «Презренной десятки пожалел! Ай-я-я-яй! Тьфу на тебя! Ничтожный червь! Раб мамоны, погубивший прекрасного великодушного человека!
Рука второкурсника, совершенно независимо от его сознания, нырнула в карман и вынырнула с двумя пятерками, которые тут же перекочевали в Мишин карман.
Миша бросил последний комплимент на скорую руку и тут же исчез в поисках очередной жертвы. Ноздри у него раздувались, как у хищника, вышедшего на охоту и вдыхающего бодрящие запахи. Второкурсник, с глаз которого упала пелена дьявольского наваждения, тут же понял, что допустил непростительную ошибку, повелся как младенец на самую топорную лесть, растаял и утратил всякую бдительность. Исправить что-то было уже невозможно. Две пятерки канули в небытие. Стипендия в мгновение уменьшилась на четверть. И от некоторых планов придется отказаться.
Пилипенко, буйный хохол, который не то, что деньги, но и прошлогоднего снега никому не даст, и тот повелся на Мишины уловки. Однокурсники в это долго не верили. Пилипенко чесал умную тыкву и недоумевал: как же так он добровольно расстался с десяткой. Без всякого физического насилия со стороны потенциального противника. Мираж? Нет! Вот они денежки, а десятки не хватает. Да за десятку грабители глотку перерезают.
Словно цыганка заколдовала. Как он, потомок славных сечевиков, пошел на поводу у турка? Его предки никогда ему не простят такого, проклянут его до скончания лет. «Нет уж! – решил Пилипенко. – Это кто-то может безвозвратно! Лопухи разные! А здесь он не на того напал. Да! Проявил минутную слабость. Каюсь! Но денежки верну! У меня все возвращают». И от твердо решил вернуть десятку, чего бы это ему ни стоило. Он пойдет на всё, кроме, конечно, нарушения уголовного кодекса. Хотя его предки зарубили этого бы проходимца в мгновении ока. И нисколько бы не пожалели об этом. Но тут была трудность. Объективная, которая делала дело возврата почти невозможным. Миша не получал стипендии. На что он жил? Конечно, подбрасывали родители. На трудовом поприще он не был замечен. Да и когда ему трудиться?
Пилипенко загнул палец. Занимает без отдачи. Пилипенко загнул второй палец. Значит, родительские деньги плюс то, что он занимает у всяких олухов. А какие еще у него могут быть доходы? Подбрасывали девицы, которых Миша менял с гусарской легкостью, как перчатки? Миша на такое способен. А девки, известно, дуры. Почему бы нет? Этот черт кого угодно заговорит. А те с родителей тянут, потом Мише суют. Если он его, Пилипенко, такого прожженного и опытного, смог раскрутить на десятку, то девиц и подавно. Пилипенко загнул третий палец. Значит, деньги у Миши водятся. Влюбленные дуры последние трусы снимут с себя стоит ему только пальцем пошевелить. Но тут была трудность. Неизвестно, когда, в какие дни у Миши бывают денежные поступления. Ведь здесь всё нерегулярно, от случая к случаю.
Вот если бы он получал стипендию, то никаких проблем. И тут Пилипенко хлопнул себя по лбу. Какой же он осел! Давно уже пора было догадаться! Ведь всё так просто! Миша не получал стипендию, но в то же время он получал, собирая безвозвратно то, что было положено ему. Каждый студент в Советском Союзе должен получать стипендию. Так думал Миша. Иначе откуда такая уверенность, что он может брать у других, не отдавая, то, что ему положено? И что с того, что он пропускает занятия, что у него хвостов, как у какого-нибудь сказочного существа? Время от времени он всё же обрубает их. Пусть и не в те сроки, что установил деканат. Что же ему умирать с голоду? А если бы он был сиротой, тогда не имел и тех жалких рублей, что пересылали родители. Такого не может быть в стране Советов, которая когда-нибудь построит светлое будущее для всего человечества, это противоречило бы всем принципам!
Миша восстанавливал социальную справедливость. Он брал то, в чем ему отказало государство. Но у государства брать чревато и опасно. А у других понемножку, тем более, что они сами дают…. Почему бы и нет? Одно не нравилось Пилипенко, что справедливость восстанавливалась в том числе и за его счет. А так он даже готов был восхищаться Мишей. Теперь дневные и ночные мысли Пилипенко были посвящены разным способам возвращения того, что он так безрассудно отдал в Мишины руки. Грубая сила как-то сразу отпала, хотя силой Пилипенко не был обделен.
И вот этот день настал. Когда Пилипенко получил из кассы кровные сорок рублей, Миша поблизости не был замечен. Пилипенко не торопился, ожидая, что Миша вот-вот появится на горизонте. Его всё не было. Но это совсем не значило, что он не появится здесь. Не мог не появиться. Настал его день поживиться за счет дурачков. А если он уже был? А если придет позднее? Что же тут сторожить его до вечера? Может быть, будет собирать по общежитию. Стоит сейчас в дверях и поджидает очередную жертву.
В некоторых группах староста группы с общего согласия получал стипендию за всех, а потом на следующий день с утра выдавал ее, удерживая сразу профсоюзные и комсомольские взносы. Для всех было удобно. Студентам не стоять в очереди, не тратить драгоценного времени. Пилипенко опять хлопнул себя по лбу. Наверно, от хлопков его мысль становилась шустрей. Поморщился, потому что на этот раз перестарался и хлопнул себя довольно сильно. Так и до сотрясения мозга можно дохлопаться! Или последние мозги выбьешь! Лучше хлопать себя по другому месту, по тому самому, где уже хлопал отцовский ремень. Это было гениально просто! Узнать, когда Миша отдает взносы – и всё! Он же и комсомолец и в профсоюзе состоит. Взносы отдают, когда появляются денежки.
Довольный своим аналитическим умом, Пилипенко отправился к Зине Овчинниковой, старосте группы, в которой учился Миша. Чтобы задобрить Зину, разорился на мороженое.
Зиночка – крепко сбитая девушка с круглым лицом, усыпанным веснушками. Веснушки даже на маленьком носике. Такая симпатичная девчонка, которая производит впечатление очень безобидной.
Ей бы юбочку-развеваечку и получилась бы девочка-припевочка, что прыгает по лужку «ля-ля-ля» и сачком ловит бабочек-стрекоз. И даже солнышко, глядя свысока, улыбается ей. Мороженое обрадовала ее, и она присела в книксене «мерси боку», как и положено воспитанной девушке, которая, тем более, обучается на филологическом отделении.
— Я по линии комитета комсомола, — важно проговорил Пилипенко, надувая щеки. – Ты же знаешь, что одной из важных задач комитета комсомола является контроль за выплатой взносов. Узнаю вот хожу, как платят взносы, нет ли злостных задолжников.
— Как надо, так и платят! – отмахнулась Зиночка, шебарша упаковкой мороженого.
— Все вовремя?
— А как же? Еще никогда не задерживали. Я всегда вовремя сдаю ведомость. Можешь проверить.
— Да! Ты же со стипендии со всех высчитываешь? На всю группу же получаешь стипендию?
— Да!
— А вот Миша… Он же не получает стипендии. Как он рассчитывается со взносами?
— Да чего там отдавать-то? Десять копеек со стипендии. Разве это деньги? Мелочовка! Миша, поскольку ему не платит стипендии, то две копейки. Как школьники.
Удар ниже пояса! У Пилипенко даже подогнулись колени. Это что же за взносы по две копейки?
— Разве есть такие взносы?
— Я же сказала, что со школьников берут по две копейки, с тех, кто не получает стипендии и не имеет никаких доходов. Ну, в смысле нигде не работает. Чего же с них брать? Ты не знал об этом?
Пилипенко пробормотал, что знал. А ведь он в школе тоже по две копейки платил. Подходить к человеку и требовать с него две копейки выглядело бы по-гоголевски комично. Дешевле самому вложить эти две копейки. А накопится, тогда и спросить.
Пилипенко вздохнул и в полном расстройстве побрел к себе. План его провалился. Накрылась его десятка. Нет! Нет! Этого он не мог допустить! Еще никогда он не отдавал своего. Что же делать? А надо публично опозорить Мишу. При всех! Тогда до него дойдет, что с ним, Пилипенко, его фокусы не пройдут. Отдаст как миленький.
Момент наступил через пару дней.
Лекция по истории партии. На истории партии сразу ходил весь курс: и историки, и филологи. Поэтому лекции проходили в большой аудитории. Свободных мест не оставалось. Пилипенко дождался перемены. Еще никто не успел выйти. Тихо переговаривались, потягивались, поднимались, разминали спины и ноги. Историю партии читал декан гуманитарного факультета Иван Афанасьевич. Он сидел за столом и перебирал бумаги. Одни оставлял на столе, другие убирал в портфель.
Кто-то сидел, кто-то лишь поднялся. Все были в сборе, еще никто не покинул аудиторию. Миша поднял голову и осматривался. Наверно, решал, продолжать ли ему дремать или размять затекшие члены. Пилипенко понял, что момент наступил. Он уже заранее торжествовал, представлял себя триумфатором, а Мишу униженным и оскорблённым. Он опустит этого восточного принца, опозорит и высмеет его, сделает посмешищем. Хлестанет по физиономии так, чтобы он запомнил на всю жизнь. Конечно, фигурально. Хотя можно было и в натуре врезать, но это грозило последствиями. Заготовленная филиппика рвалась наружу, как птица из тесной клетки. Кровь бурлила, а сердце учащенно стучало. Даже коленки подрагивали, что означало сильную степень волнения. Решительно шагнул в Мишину сторону и остановился над ним, еще не решившим дремать ли ему или немного пободрствовать.
Пилипенко посмотрел на Мишу сверху вниз, как горный орел на презренного барана, которому недоступны бури жизни. Но Миша не видел этого презрительного взгляда. Хотя, видно, почувствовал, что кто-то находится рядом, и поднял свои большие темные глаза с большими черными ресницами, над которыми дугами нависали смоляные брови. Пилипенко боковым зрением отметил присутствие всех в аудитории и громким четким голосом произнес, чтобы слышали все, даже те, кто сейчас переговаривался:
— Миша!
Миша еще выше задрал голову, так, что затылок его откинулся назад на воротник рубашки.
— Разве тебе не известно, что порядочный человек всегда вовремя отдает долги? Иначе нет никаких оснований считать его порядочным человеком, достойным уважения.
Все смотрели на них. Даже Иван Афанасьевич перестал шуршать бумажками и поднял голову. Миша даже не повел ухом. Ни один мускул не дрогнул на его лице. По всему было видно, что он считал себя очень порядочным человеком, достойным не просто уважения, но поклонения. Пилипенко собирался продолжить филиппику, но тут раздался спокойный Мишин голос:
— Конечно, знаю. А ты не помнишь, сколько ты мне должен? А то я что-то запамятовал.
Бормотания Пилипенко, что не он должен, а ему должны, уже никто не слышал. Да и кому они были интересны. Сочувствие было на Мишиной стороне. К тому же он так по-доброму улыбался.
Кто-то смеялся, кто-то громко говорил, кто-то шел на выход. Эпизод был исперчен. Иван Афанасьевич снова погрузился в бумаги. Одни он просматривал, читал, другие, не глядя, откладывал в сторону. Он любил историю партии и всегда старался найти какой-то интригующий момент, хорошо бы детективного порядка, чтобы история партии выглядела не менее захватывающей, чем детективы Агаты Кристи. Такие моменты всегда привлекают внимание студентов, и они понимают, что история партии – это не скучный пересказ партийных документов.
Иван Афанасьевич бросил взгляд на Мишу. «Что-то в них особенное в восточных людях. Вот симпатичный, неглупый парень. И что-то в нем есть такое, а что не пойму. Вот и со Сталиным также. Уже давным-давно его нет. А загадки его никто не может разгадать». Иван Афанасьевич любил проводить параллели с историей. Особенно с историей партии.
22
«ДА БЫЛИ ЛЮДИ!»
Колоритных фигур было немного. Но они всегда были. На каждом факультете, на каждом курсе. Их окружали мифы, о них складывались легенды, которые передавались от поколения к поколению, обрастая всё новыми подробностями, порой былинными. Даже, когда эти личности уходили и исчезали в туманном далеко, о них еще долго говорили и вспоминали. Младшие поколения узнавали о них от старших. История их жизни и пребывания в университете обрастала фантастическими деталями и уже невозможно было отличить, где правда, а где вымысел. Да и никто не пытался это делать, потому что это было бесполезно, самое главное не нужно.
Одной из таких легендарных личностей на историческом отделении был Евгений Говорухин. Может быть, он даже был родственником знаменитого режиссера, потому что творческое начало в нем явно присутствовало. Не знали, как он появился в университете. На вступительных экзаменах его не видели. Не заметить такую фигуру было невозможно. Рабфаковцы твердили, что он у них не учился. Получалось, что свалился, как снег на голову неведомо откуда.
Выглядел он старше некоторых молодых преподавателей. Разумеется, он успел отслужить в армии, поработать в разных местах. Да и повидать немало. Как вскоре убедились. Говорили, что он был женат и даже дважды или трижды. И у него было несколько детей, которые живут в разных местах на необъятных просторах нашей родины, поскольку сам по себе он был перекати-поле и долго нигде не задерживался.
Говорухин был высок. Объемен. С большой лысиной. Меньше тридцатки ему никто не давал. Может быть, он где-то уже учился и перевелся в Новосибирский университет.
В общежитии он не жил. А где он обитал, никому точно не было известно. Поговаривали, что он охмурил местную дамочку и проживает у нее на всем готовом. Она в нем души не чает. Друзей он не имел, ни с кем близко не сходился. На переменах обычно оставался в аудиториях и беседовал с преподавателем. В общих разговорах и спорах участия не принимал. Это приписывали его высокомерию. Дескать, остальные студенты для него вроде как малыши.
На лекциях он садился впереди на место, которое предпочитали не занимать. И обычно оно пустовало. Сидел он в полразворота, закинув ногу на ногу, с легкой усмешкой на лице. Такое впечатление, что он думал: «Мели, Емеля! Твоя неделя!» Вроде бы преподавателей это должно было раздражать, всё-таки это выглядело как вызов. Но нет! Вероятно, действовал эффект: то, что у меня под носом, я не вижу. Взгляд преподавателя всегда устремлен к задней стенке, где по глупости пытаются укрыться от этого взгляда.
Говорухин не писал конспектов. И вообще не носил никаких портфелей или папок. Руки его никогда и ничем не были заняты. Но почему-то ни один преподаватель ему не делал замечания. Вот так на всех лекциях он сидел в пол-оборота и с иронической насмешкой погладывал на преподавателя. Такое впечатление, что отношение у него к преподавателям было такое же, как у вождя мирового пролетариата к декабристам: страшно далеки они от народа. Они не знают того, что знаю я.
Все были уверены, что Говорухин не сдаст сессию. Во-первых, если ты не пишешь конспектов, как ты будешь готовиться. Каждый преподаватель требует, чтобы ему отвечали то, что он давал. Во-вторых, вытекает из во-первых. Преподаватели не любят тех, кто не конспектирует их лекции. Или делает это недостаточно ответственно. Некоторые даже на экзаменах или зачетах просили показать конспекты их лекций. И тут учитывалось всё: и полнота, и аккуратность.
А если у тебя еще и выделения важных мыслей, то могут автоматом поставить зачет или экзамен. «Конспект – это лицо студента», — как говаривал один доцент. Так что манкировать конспектами – непозволительная дерзость.
Были и такие преподаватели, которые просили конспект на несколько дней, чтобы переписать его и иметь записи собственных лекций, поскольку таковых не имели и импровизировали в студенческой аудитории. Наберешь эти конспекты и можно потом тиснуть книжечку.
К всеобщему удивлению, Говорухин сдавал и зачеты, и экзамены. Садился он, как всегда, на переднее место под самым носом преподавателя. Перед ним на столе была tabula rasa, то есть ничего не было. Ни ручки, ни каких-то бумажек. Сидел в своей обычной позе: нога на ногу, полу-боком. И непременная ухмылка, которая непонятно к кому относилась.
Все усердно писали, потели, покрывались мурашками от страха, тяжело вздыхали. Для кого-то экзамен был настоящим стрессом. Они были уверены, что непременно завалят. Говорухин откровенно сачковал, с улыбкой поглядывая то на одних, то на других. Внимательно слушал, как отвечали, всё так же улыбаясь. Кого-то его улыбочка раздражала. Иногда он откровенно хмыкал. Такое впечатление, что он пришел не сдавать экзамен, а смотреть и слушать, как это делают другие. Такой наблюдатель со стороны.
Это зрелище, наверно, ему представлялось забавным. Сидит молодняк и трясется. Доходила очередь и до него. Он делал шаг к столу преподавателя, грузно опускался на стул, клал билет перед собой и вопросительно глядел на преподавателя, ожидая команды. Некоторые смотрели на него с любопытством и даже со страхом. Всё-таки редкий экземпляр. Неизвестно, что можно ожидать от него. А кто-то с ехидцей, будучи уверенными, что они последний раз сталкиваются с этим типом. Что можно взять со студента, который не пишет конспектов? И на экзамены пришел как на посиделки. Просидел, ничем не утруждая себя. У Говорухина был богатый жизненный опыт. И он производил впечатление человека, который прошел и рым, и Крым, и медные трубы. Он жил по принципу гётевского Мефистофеля: «Суха теория мой друг, а древо жизни вечно зеленеет». И у этого древа он обшаркался изрядно.
Вот и подошла твоя очередь, Говорухин! Преподаватель мысленно потирает руки. Иной это делает явно. Чего же скрывать чувство радости и удовлетворения! А как ты думал, голубчик? «Сейчас от тебя пух и перья полетят!» «Голубчик» читает первый вопрос. Делает паузу, как генсек перед началом чтения отчетного доклада. Говорит несколько фраз по существу. Говорухин – хоть и историк, но история для него не просто наука о прошлом, а инструмент для познания современности, как и положено науке. А иначе кому нужна такая наука, если у неё с жизнью нет ничего общего?
Любой вопрос он переводит в современную реальность с ее конкретными ситуациями. И о чем бы ни заходила речь, в конечном счете Говорухин всё сведет к современности. Будь это Древний Шумер или эпоха династии Цин. Поэтому Говорухину очень нравится история партии. Вот где есть разгуляться, поговорить о сегодняшнем дне. Он выпрямляет спину, разворачивает плечи и сразу берет быка за рога. А чего ходить вокруг да около, переливать из пустого в порожнее, толочь воду в ступе?
Очевидцы долго вспоминали, ка он сдавал зачет по истории партии. Было это после первого семестра. Первый вопрос о «рабочей оппозиции». Пары фраз об этой самой оппозиции Говорухину показалось вполне достаточным. Во всякие подробности он не посчитал нужным вдаваться. Небольшая пауза. И…
— А вот, Иван Афанасьевич, согласитесь, что лидеры «рабочей оппозиции» оказались правы. В данной дискуссии они были большими марксистами и большими ленинцами, чем их критики.
У Ивана Афанасьевича один глаз стеклянный. Он всегда смотрит в одну точку. А во втором живом любопытство и вопрос. Никто не знает, где он мог потерять глаз. И это окутывает фигуру декана ореолом загадочности. Живым глазом он, как рентгеном, просвечивает Говорухина.
— О чем вы, молодой человек? Что за бред?
— Как же бред, Иван Афанасьевич. Еще Маркс писал об отмирании государства при социализме. А Ленин развил эту идею в работе «Государство и революция». На место государству придет общественное самоуправление. Именно это и предлагали лидеры «рабочей оппозиции». Да и лозунг, под которым прошла Октябрьская революция: «Фабрики рабочим!»
— Подождите! Подождите! Э…
Иван Афанасьевич заглянул в зачетку.
— Евгений Васильевич!
— Конечно, здравый смысл есть в ваших суждениях, Евгений Васильевич. Но не нужно подходить с абстрактных позиций к реальной жизни. Страна переживала очень сложный момент. Разруха, еще не закончилась гражданская война, голод. Только единая монолитная партия могла сплотить народные массы на преодоление всех трудностей. Поэтому Ленин и его соратники повели решительную борьбу с любыми фракциями, оппозицией. Ведь это могло привести к расколу партии. И в конечном счете, к гибели Советской власти. Это был вопрос жизни и смерти.
— Иван Афанасьевич, а когда в истории нашей страны не было чрезвычайных обстоятельств? Если постоянно ссылаться на них, то мы никогда не построим коммунизм.
— Вижу, что вы владеете материалом, Евгений Васильевич. Давайте перейдем ко второму вопросу. Что там у нас?
— У нас двадцатый съезд партии.
Стеклянный глаз декана дрогнул. Если бы из него побежала слеза, никто бы не удивился.
— Давайте вкратце! Основные решения, значение… Этим ограничимся.
— Ограничиться, Иван Афанасьевич, никак не получится. Конечно, решения съезда – это большой шаг вперед в развитии марксистко-ленинской теории. Но не всё так однозначно. В международном коммунистическом движении возникла растерянность, начался раскол. Крупнейшая компартия мира, я имею в виду китайскую, осудила разоблачение культа личности. Китай из нашего союзника с этого времени становится не просто яростным оппонентом, но даже врагом СССР.
Ивану Афанасьевичу стало грустно. Нужно было спасать положение.
— Давайте сделаем так, Евгений Васильевич! Всё-таки экзамен – это не место для дискуссий. А вот подготовьте этот вопрос на семинар. Будет очень любопытно послушать вас. В зачет я вам ставлю. Это хорошо, когда у студента не намыленный глаз на теоретические вопросы.
Он протянул зачетку Говорухину. Тот поднялся и по армейской привычке спросил:
— Я могу идти!
— Конечно! Конечно! Следующий!
Вот так Говорухин и сдавал экзамены и зачеты. Порой преподавателей он ставил в тупик не очень удобными вопросами, часто удивлял неожиданными параллелями с современностью.
«Вот если бы он еще писал конспекты! – вздыхали преподаватели. – Цены бы ему не было!» А, может быть, у Говорухина была аллергия на ручку и на бумагу? Сколько он проучился в университете, так ручку в свою натруженную руку и не взял.
На лето многие разъезжались по стройотрядам. Девушки из отделения филологов забрались ажно на Шикотан, где они работали на рыбной фабрике. Потом каждая из них привезла оттуда настоящую икру. Кто-то шел в отряд проводников. Строительные бригады разъезжались по всей Сибири. Из второкурсников гумфака стали формировать отрад для ремонта «пятерки». Командиром отряда назначили Евгения Говорухина, как самого опытного, поработавшего на разных работах, в том числе и на строительных. Общежитие ремонтировали больше месяца: штукатурили, красили, белили. Говорухин с утра давал разнарядку, расставлял по рабочим местам. И почти до обеда исчезал. Договаривался с поставщиками, выбивал материал и прочее.
Говорухин ввел новую систему оплаты труда, то, что назовут потом КТУ (коэффициентом трудового участия). Каждому стройотрядовцу выставлялся балл за качество и количество труда. И по этим баллам шли добавки. Получилось, что у ребят, отработавших одинаковое количество часов, была разница порой в два раза. Это и вызвало недовольство. Говорухин убеждал: вот смотрите, как этот штукатурит и сколько делает квадратов, и этот… Поэтому и получить они должны по-разному. Но какую не делай систему оплаты, недовольные всегда будут.
Говорухин не закончил университета. Где-то на курсе третьем он исчез внезапно и в неизвестном направлении, так же, как и появился.
23
ЭПП! УХНЕМ!
Всё в нем было несуразно. И вызывало удивление и недоумение. Прежде всего, внешность. Он был высок под два метра, худ, узкоплеч, с длинными руками, которые свисали чуть ли не до колен и находились в постоянном движении, как и лицо. Вытянутое, курносое, большеротое, с тонкими, как пергамент, ушами-лопухами. Оно постоянно двигалось: губы, нос, уши, щеки, глаза и даже кучерявые волосы земляного цвета, которые, казалось, никогда не знали расчески, а о разных шампунях и понятия не имели. Эти постоянные изменения передавали эмоции, которые он переживал в данный момент. Если бы вы попытались понаблюдать за ним во время лекции, то лекция для вас пропала бы. Потому что зрелище было захватывающим.
Преподаватель говорил что-то серьезное, и брови у него ломались под прямым углом, между ними образовывалась глубокая морщина, кончик носа приподнимался, зрачки закатывались вверх, толстые губы растягивались до ушей, щеки впадали и кучеряшки на голове начинали шевелиться, как будто их обдувал ветерок. Все пальцы шевелились. Весь он подавался вперед навстречу кафедре. И казалось, что сейчас сорвется со своего места.
Всем своим видом он выражал осознание важности момента. «Нет сейчас в мире ничего более важного, чем вот это! Да! Я потрясен! Это очень серьезно! Вы мне открыли глаза!»
Если же преподаватель позволял пошутить, то нос его начинал подпрыгивать, рот раздвигался до ушей, а глаза светились детской неподдельной радостью, как у ребенка, которому Дедушка Мороз давал большую конфетку. Руки и ноги его тоже приходили в движение. Только что не подскакивал с места и не начинал танцевать ламбаду. Это был человек-эмоция, который царившую вокруг него атмосферу воспринимал всем своим существом и выражал ее каждой частицей своего тела. Сдерживать себя он не мог.
Если бы только внешность, и фамилия у него была необычная для русского уха. Непонятно какая: или придуманная предками-озорниками, или пришедшая из заморских краев.
Эпп! Да! Да! Коротко и ясно! Эпп! И всё! ну, ладно бы там Эпов или Эпин. Тоже экзотика, но приемлемо. Хорошо еще, что не Оп и не Ап! Но называть его такой экстремально короткой фамилией было как-то непривычно. Вроде как собака отгоняешь: фу, то есть нельзя. Это в мультфильмах могут быть Ух и Ах. А в жизни надо что-то посолидней. Всегда называли его с добавлением имени: Саша Эпп. Причем имя и фамилию старались произнести слитно, вроде как одно слово: привычное имя Саша и что-то вроде восклицания.
При такой необычной внешности и фамилии нельзя было не стать достопримечательностью курса, о котором говорят, восхищаются, удивляются и слагают, само собой, легенды. Саша Эпп стал такой достопримечательностью, едва он появился в студгородке. Иначе и быть не могло. Все странное, необычное притягивает внимание. Даже с других курсов и факультетов приходили подивиться на него. А у Сашиных однокурсников спрашивали: «Что там у вас за чудо в перьях? Говорят, оригинал». Причем даже не просили: «А где у вас этот Саша Эпп? Покажите нам его!» Его узнавали сразу, удивлялись, рассказывали своим товарищам. И количество паломников на гумфак росло. Что, конечно, не могло не льстить гуманитариям.
По Сашиным рассказам, родом он из глухой таежной иркутской деревни. В деревне лесхоз. Закончил школу с золотой медалью. Его отправляли на все олимпиады, викторины и конкурсы. И в райцентр, и в Иркутск. И даже в Красноярск, и в Читу. Его победы приносили славу родной школе. Посторонние люди не понимали, как при такой внешности можно быть вундеркиндом. В их представлении гений должен выглядеть, как Данте Алигьери или, по меньшей мере, как Лев Толстой. Пусть и без бороды. А тут вроде как сплошное безобразие и больше похож на деревенского дурачка.
Это какой-то Савелий Крамаров. Ему бы в комедиях сниматься, а он на всех олимпиадах первые места занимает. Недоумевали те, кто сталкивался с Сашей Эппом. Но это уже их проблемы. А вот местные учителя, сельская администрация и руководство лесхоза пророчили Саше Эппу славу Ломоносова, свет которой упадет и на них. Всем хотелось, чтобы он поехал в Москву, в самый главный университет страны. Ломоносов же тоже начал с Москвы. А Саше даже пешком не надо идти. Купят билет на самолет.
Остановились на Новосибирске. Поближе всё-таки. Можно даже изредка попроведовать. Если от рук отобьется, то станет быстрей известно. Да и Новосибирск – тоже столицы. Столица Сибири. Это даже не Иркутск. А тем более не Чита.
На экзаменах Саша Эпп блистал. Оказалось, что он прочитал все книги по истории, которые были в местной библиотеке. А некоторые по нескольку раз. Разумеется, это были в основном художественные книги. Но авторы исторических повестей и романов не высасывают сюжеты из пальца, но изучают исторические документы, вникают в эпоху, даже отправляются в те места, где происходили события их произведений. Мальчишка почерпнул из исторической беллетристики немало. В голове у него жили тысячи историй, реальных исторических персонажей. На экзамене по истории России ему, правда, не попалось татаро-монгольское нашествие. И это было хорошо для экзаменаторов, потому что книги Виктора Яна были в числе любимых у Саши. Он перечитал их по нескольку раз. И буквально грезил этой эпохой, зримо представляя, как пылают русские города и селения.
О жизни в таежном поселке Саша рассказывал поразительные, особенно для горожан, вещи. Некоторые даже не хотели верить в его рассказы, считая их плодом фантазии. Однажды на уроке все позабыли про рассказ учителя и бросились к окну, в которое заглядывал медведь. Матерый медведь-шатун, встречи с которым боятся даже опытные охотники. Может быть, он, как Филиппок, хотел учиться вместе с ребятами, сидеть в чистом теплом классе, дергать девчонок за косички и устраивать кучу малу на переменах. А еще пить сладкий чай с горячими калачами, вкуснее которых для ребятишек ничего не было.
Пригоны делают из толстых бревен с крепкими дверями, которые надежно закрывают на ночь на случай, если пожалует волк или сам хозяин тайги полакомиться живностью. Саша Эпп прекрасно стрелял, что как-то не вязалось с его внешностью. У людей было о нем представление как о недотепе, который ничего не умеет. Ничего в этом удивительного не было. Его отец, наполовину русский, наполовину бурят, таскал Сашу с малых лет по тайге и учил его разным тонкостям таежной науки. Саша мастерски передавал голоса разных птиц и зверей. Это было забавно слушать. Из него получился бы хороший охотник, но родственники и односельчане прочили ему славу нового Ломоносова, а охотиться и заготавливать древесину и без него найдутся умельцы.
Его всё интересовало. Не то, чтобы он был назойливым, но один он не мог оставаться. Его постоянно тянуло в компании. И не имело значения, что это могла быть компания незнакомых людей. Выходя из аудитории на перемене, он сразу устремлялся, завидев какую-нибудь группку. Останавливался и слушал, о чем идет речь. Более благодарного слушателя найти было невозможно. Скучных тем для него не было.
Это можно было бы назвать бесцеремонностью и навязчивостью. Конечно, были такие, кого он раздражал. Про таких людей, как Саша Эпп, говорят: пристал, как банный лист. Даже грубым словом его нельзя было обидеть.
Когда он приехал поступать и зашел в главный корпус, то сразу растерялся. Что и неудивительно. Он не был в таких больших зданиях, где столько комнат, лестниц, переходов, этажей и везде полным-полно народу. И никому ты здесь совершенно не интересен. Куда сунуться пареньку из таежной деревни? Какова процедура оформления документов? С чего начинать? Куда сунуться? Голова кругом. Он стоял и озирался. Но мигом сориентировался. Из художественной литературы он усвоил, что если попадаешь в незнакомое место, то нужно найти гида. Таким коллективным гидом для него стала группа девушек, которые тоже поступали на гумфак и довольно сносно ориентировались в окружающем пространстве. Еще бы! Среди них двое были горожанки. Он пристроился за ними и ходил следом, как хвостик, время от времени перекидываясь с ними короткими фразами. На пространные разговоры просто не было времени. Они видели, что парень деревенский, почему бы не помочь. Даже лестно помочь. Доброта и помощь возвышает дух человека.
— Нам сейчас в комнату…
Номер с трехзначной цифрой. Быстро находили. И подходили именно к тому столу, к какому надо. Писали заявление, подавали документы, расспрашивали, как и что. Саша с ними.
— А сейчас нам в такой-то номер…
И уверенно шли вперед. Сворачивали там, где нужно было свернуть. И подходили к нужной комнате.
— Здесь на счет общежития.
И Саша следом. И тоже прописывался. И получал направление к комендантше «пятерки».
В другую комнату. Еще куда-то. Саша не отстает ни на шаг. Они ускоряются, и он тоже. Тут-то с ним и случился конфуз. Хотя и девчонки в какой-то степени виноваты. Они же знали, что он неотвязно следует за ними. Могли бы подумать об этом.
Но они не подумали, что Саша такой несообразительный и во всем положился на них. Как бычок на привязи, плелся за ними, будучи уверенным, что так он не собьется со следа. Они сворачивают в очередную комнату, а он даже не взглянул на дверь, какой на ней трехзначный номер. Да и какая разница. Как говорил вождь мирового пролетариата, «верным путем идете, товарищи!» Зачем разглядывать номера? Девчонки-то всё знают. Вон как они ориентируются в этих каменных джунглях-лабиринтах! Делают вглубь несколько шагов. И тут до него доходит, что-то здесь не то. Какая-то тревога тревожит его душу! Что-то он неверно сделал. И Саша замирает на месте. Во-первых, спереди никакого стола, за которым сидят старшекурсники или аспиранты и что-то оформляют. В пору приема здесь всяких комиссий невпроворот. Во-вторых, на стене большое зеркало и пол почему-то плиточный. Хотя он помнил, что во всех комнатах пол был деревянный. Такой плиточный пол он уже видел. Где-то журчит вода. И воздух не такой, как в административных помещениях, где пахнет человеческим потом, бумагами и канцелярскими принадлежностями. Он начинает понимать, что сюда ему не нужно было заходить. Зрачки Сашины стремительно вращаются, изучая помещение. Нос дрожит.
Тут одна девушка, что идет сзади, оборачивается, видит Сашу Эппа. Она ничего не говорит. В глазах у нее такое удивление. Саша пятится задом к дверям, как будто заметает следы. Оказавшись в коридоре, видит на дверях табличку с женским профилем. Рядом другая дверь, но с мужским профилем. Что они, девчонки, подумают о нем?
После этого Саша решил отстать от девушек и закончить процедуру оформления самостоятельно. Тем более, что ему уже казалось, что он стал немного разбираться, где и что. Да и процедура была уже почти закончена.
Когда он пришел в «пятерку», вахтер, худенький, сухенький старичок, долго вертел направление в руках. Может быть, ему показалось, что оно поддельное. Мало ли всяких мошенников! Пытался ее читать вверх ногами и на свет смотрел. Он никак не мог поверить, что студенты могут быть такими. Хотя повидал всяких. Но не такие же! Наотрез отказался пропускать Сашу, сказал, что нужно ждать комендантшу, потому что она прописывает и оформляет пропуск. Кстати, для пропуска нужна фотография.
Саша сел на диванчик. Колени его уперлись в подбородок. Ботинки на нем были сорок пятого размера. Ничего примечательного вокруг него не было. Даже не было портрета или бюста Ильича. А Саша был убежден, что во всех общественных учреждениях должен быть Ленин. Обязательно в холле любого учреждения висит транспарант, типа «Наша цель – коммунизма» или «Пятилетку – в четыре года». Хотя последний не очень вязался с учебным учреждением. Положено пять лет отбарабанить, будь добр! Но здесь не было ни одного транспаранта. И тогда Саша окончательно понял, что он попал в другой мир, в котором живут по иным правилам, чем в их таежном краю. И вероятно, открытия будут попадаться ему на каждом шагу.
Двери хлопали. Кто-то заходил, кто-то выходил. Саша, не скрывая любопытства, разглядывал каждого. Девушки порой были в джинсах или темных узких брючках, которые рельефно подчеркивали их прелести. Оказывается, не только платье может украшать слабый пол. Сашу это уже не удивляло. У них в лесхозе женщины тоже носили штаны. Но это было хэбэ, плотное и толстое, темно-синего цвета. И носили их те, кто работал на лесоповале. Зимой женщины надевали ватные штаны и становились похожими на пингвинов.
Молча что-то созерцать Саша долго не мог. Ему нужно было общение. Поэтому он обратился к вахтеру.
— Как вас зовут, дедушка?
Вахтер сурово посмотрел на несуразного паренька. Но он умел сдерживать гнев и раздражение.
— Я тебе не дедушка! Внучок тоже нашелся. И откуда ты только такой взялся. Всякое видел, но такое впервые.
Это не остановило Сашу.
— А меня зовут Саша. Александр, то есть. Родители меня назвали в честь Александра Македонского. Эпп!
— Кого?
Вахтер оторвался от газеты. Посмотрел на него поверх очков, которые ему были нужны лишь для чтения.
— Сашей меня зовут. Эпп.
— Какой еще такой Эпп? – прохрипел вахтер. Разыгрывает его что ли? Этого еще не хватало!
— Эпп – это фамилия моя.
— Эпп?
Вахтер отодвинул газету. Снял очки. Долго и пристально глядел на паренька. Непохоже, что он шутит.
— Чудны дела твои, Господи! Чего только не бывает! – уже снисходительно проговорил вахтер. — Разве такая фамилия может быть? Сколько живу, ничего подобного не слышал.
Он почесал подбородок.
— Нет! Ну, это уж слишком. Ну, хотя бы Эпов. Куда ни шло! Или Эпин. А то Эпп! И больше ничего!
Саша согласился.
— Многие удивляются. А я вот привык. Нет, ни к фамилии. А к тому, что удивляются фамилии. Очень короткая. Расписываться хорошо. Всего-то – навсего три буквы. Вот у нас в классе был мальчишка. У него фамилия Зарамахамутдинов. Представляете? Выговаривать-то затруднительно. А если писать, так это же мучение настоящее. А представьте, жена его получит его фамилию. И вот встречает ее на улице бывая одноклассница и радостно кричит ей: «Привет, Петрова! Сколько лет, сколько зим!» Она: «А я не Петрова. Я замуж вышла. Вот так-то! И фамилию, конечно, взяла мужа». – «Кто ты сейчас?» — «Я сейчас Зарамахамутдинова. Вот так, подруга!» Пока она свою фамилию будет выговаривать, у ее подруги вся прошлая жизнь пронесется перед глазами. А уж повторить фамилию она не решится. Ее заучивать нужно только полдня.
Вахтер заулыбался.
— Я вообще-то Павел Иванович. Ну, можно просто дядей Пашей звать. Меня так многие называют. Ты откуда, Саша Эпп, будешь?
— О! Я издалека. Из Иркутской области. На самом севере области наша деревня. А там лесхоз.
— У меня там сосед на лесозаготовках сидел. Лес заготавливал для страны. Говорит, что очень свежий воздух.
— А я там живу. То есть жил. Школу закончил, надо учиться дальше. Получать профессию.
— Надо! – согласился Павел Иванович. – Без профессии никак нельзя. Это как без рук.
— А вот и Альбина Ивановна! – воскликнул он.
В фойе вошла дама бальзаковского возраста, крупногабаритная, с рельефными формами, ярко накрашенными губами.
— Добрый день, Альбина Ивановна! – проворковал дядя Паша.
— Добрый! – едва кивнула она.
— Вот устраиваться молодой человек в общежитие.
Альбина Ивановна поглядела на Сашу Эппа как на какое-то недоразумение. Такого она бы только на дачу поставила вместо пугала.
— Ну, пойдем, молодой человек!
Тут же справа был ее кабинет, куда Саша сразу и вошел следом за ней. Протянул направление, паспорт.
Альбина Ивановна покачала головой.
— Надо же с Иркутской области!
Удивилась, как будто Иркутская область — это где-то на Марсе.
— Пока заселяйся! Если поступишь, сдашь фотографии, получишь постоянный пропуск.
Поднялась, подала ему пачку постельного белья. Назвала номер комнаты. Так Саша Эпп стал обитателем «пятерки».
Не прошло и месяца учебных занятий, а о Саше Эппе говорили на кафедре больше, чем о всех студентах вместе взятых. Грубо говоря, он всех преподавателей «достал» или еще грубее «задолбал». Едва звенел звонок, он устремлялся к преподавательскому столу, и вопросы сыпались из него, как горох из порванного мешка. Конечно, сначала это льстило любому преподавателю. Кто из них не мечтает о благодарных любопытных слушателей. Самое же большое наказание – это равнодушный студент, которому все по барабану. И лекции для него – лишь суровая необходимость, обязанность.
Но когда тебя на каждой перемене держит назойливый студент, это со временем начинает раздражать. Преподаватель – тоже человек, он хочет хоть на несколько минут развеяться, подумать о домашнем, перебрать бумажки, полистать конспект, да элементарно сходить в туалет. Поэтому постепенно от Саши Эппа стали отмахиваться как от назойливой мухи под всякими благовидными, часто придуманными предлогами. Правда, Саша не терял надежды, преследовал на ходу, догонял в коридоре. Всё чаще от него отделывались короткими, но решительными фразами: «Извините! Мне некогда!» Саша пришлось переключиться на товарищей. Он подходил к паре парнишек, которые, допустим, курили в фойе.
На лице широкая улыбка, как будто он увидел старых знакомых, которых не видел сто лет. А те, говорят, допустим о музыке. В музыке Саша не разбирался, но поддержать разговор мог.
— А вы знаете, ребята, что Моцарт уже в восемь лет написал симфонию?
Те замолкали и настороженно глядели на него, если им приходилось впервые иметь дело с ним.
— И что с того? – наконец произносил кто-нибудь.
— Так что же получается: что композиторами не становятся, а рождаются. Как-то противоречит марксистко-ленинской теории.
— А ты не лезь во все дыры с марксистско-ленинской теорией, и тогда у тебя не будет возникать еретических мыслей.
— А вот об этом можно поспорить, ребята!
И Саша Эпп бесцеремонно вторгался в разговор.
Конечно, после этого у них возникала потребность узнать, что же это за уникум такой. И от Сашиных однокурсников они выслушивали столько легенд и сказаний про него, что вольно-невольно проникались удивлением, если не восторгом.
Но если бы только это. Его энергия била через край. Он был уверен, что всё можно улучшить и сделать совершенней. И только человеческая лень препятствует этому.
Саша сдал экзамены за первый курс и уехал на лето к себе домой. А когда первого сентября второкурсники вышли на занятия, в своих рядах они не досчитались его. Но сильно этому не удивились. Задержки в начале сентября обычное дело.
Прошла неделя, его всё не было.
— Где Саша Эпп? – спрашивали друг друга.
Пожимали плечами. Без него ландшафт не был таким красочным. Его любознательное лицо и несуразная фигура придавали ему особый шарм.
Но вот уже вернулись стройотрядовцы. Даже с самого дальнего Дальнего Востока. Саши всё не было. Кто-то уже скучал по его постоянному любопытству, вездесущности. Закончился сентябрь. И стало ясно, что Саши уже среди них не будет. Если, конечно, у него не какое-нибудь хроническое заболевание или перелом чего-нибудь. Разное гадали.
— А чего гадать-то? – сказала староста. – Сейчас узнаем! Дел-то! Подождите меня!
Она пошла к секретарю.
— Оппоньки, ребята! Перевелся наш Саша Эпп. Изменил альма матер, изменщик коварный!
— В Москву? В Томск?
— В Иркутский универ. Поближе к дому. И за продуктами можно на празднике смотаться.
Всё-таки, что подвигло Сашу к такому решению оставалось только гадать. Может, действительно, близость дома. А может, и что иное. Но для всех это было неожиданно. А если ему не понравился Академгородок, то, что над ним подшучивали постоянно, некоторые даже грубо прогоняли его, как гонят назойливую собаку?
А что Академгородок? Очень симпатичный. А если и смеялись над Сашей Эппом, так не со зла же.
Как всегда, свое мнение высказал Петров.
— Да зазноба у него там. Зуб даю. Я в этих делах дока. Я у него в глазах увидел затаенную грусть. Любоф! Короче, Ромео и Джульетта!
— А с чего это ты решил, Петров? – затарахтели девчонки. – Мы чего-то не заметили.
Представить Сашу Эппа, воркующим нежные слова на ушко смущенной девушки, не могло самое смелое воображение. А если бы и представило, то только с комическим уклоном.
— Шэршэ ля фам, как говорят у нас в Париже! – изрек Петров, закатывая глаза под потолок.
В чем-чем, а по части слабого пола, Петров считался знатоком. Он был уверен, что и слабым полом его назвали потому, что представительницы оного не могут устоять перед его Петровским обаянием. Кто-то согласился с этим мнением.
С исчезновением Саши Эппа курс что-то потерял, немного чудаковатости и детскости.
24
КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
Шел веселый человек с улыбкой до ушей, дымил сигаретой, наполнял свежий воздух благовонием винных паров. С недельной щетиной его лицо было похоже на доброго милого ежика. С рубашкой, выбившейся из-под брюк. С расстёгнутым зиппером. Шел веселый человек. Всех трогал. Кого словами, а девушек руками за выдающиеся места. Но те почему-то фыркали и отпрыгивали от него, словесно выражая негодование.
Пацан ли пробежит, щелбан ему отмерит. Да так шутейно, со всего размаху, что некоторые чуть на колени не падают. Старушка ли пройдет, поинтересуется, почему она без ступы и помела. Никак совсем склероз замучил? Ай-я-яй! А в молодые-то годы, наверно, пускалась во все тяжкие? Мужчина ли повстречается, предложит ему сброситься. Не с утеса на черные мокрые камни, а по рваному. Так он называл советские деньги. Как будто ему зарплату выдавали только испорченными купюрами.
Был веселый человек уверен, что всем встречным и поперечным весело от его шуток. И они сразу забывают всякие невзгоды, неприятности на работе и дома, мировые проблемы. Настроение их улучшается, и жизнь представляется не такой серой и однообразной. А все только потому, что они повстречали его, веселого жизнерадостного человека. И не заметил веселый человек, проморгал, упустил тот момент, когда с боковой дорожки вышли ему наперерез трое ребят, представителей советской молодежи, аккуратно одетых, в светлые рубашки, темные отглаженные брюки и черные начищенные туфли, постриженные, побритые и пахнущие одеколоном.
Только одно их отличало от других скромных советских ребят, которые учатся или трудятся на ударных стройках. Красная повязка повыше локтя, на которой было лишь три буквы «ДНД». Буквы-то всего три, но их никогда не писали на заборах. А у многих они вызвали даже страх.
К полной неожиданности дорогу этому веселому человеку перегородили трое этих ребят с повязками. Лица их были суровы и ответственны. Явно шутить они не собирались.
— Почему хулиганим, гражданин? Нарушаем общественный порядок? – спросил тот, который был посередине, высокого роста, широкоплечий, нерусской внешности. Такой богатырь из восточных сказок «Тысячи и одной ночи», с которым нежелательно связываться.
— Нарушаю? – удивился веселый человек. – Я вообще-то домой иду с работы, где меня ждет… но это не важно. Что же рабочему человеку должно быть недоступно радостное настроение?
— К другим гражданам пристаем, нецензурно выражаемся. К тому же в нетрезвом состоянии, что оскорбляет человеческое достоинство других людей. А вы этого не осознаете. Никто не против того, что вы идете домой с работы. Все ходят домой с работы. Или на работу из дома. Но как вы идете? Кругом дети. Какой вы пример подаете подрастающему поколению? Чему хорошему они могут научиться от вас? Ничему хорошему. Гражданин! Это очень нехорошо.
Лицо веселого человека побагровело. Кулаки его сжались. Желваки задвигались вверх-вниз. Еще смеют поучать его!
— Да видал я вас всех в гробу в белых тапочках! Кто вы такие? Молокососы, сопляки! Чего застыли, дорогу загораживаете? Пошли вон!
И он изрек нехорошее слово, которое в печати обычно обозначается многоточием.
Такое не понравится ни одному уважающему себя человеку. А молодые люди явно относились к таким.
— Оскорбляете? А ведь мы при исполнении, — сказал тот, что стоял с краю, пониже ростом, но тоже такой плотный паренек. — Нехорошо, гражданин! Это чревато последствиями. Пройдемте с нами!
— Кого?
Гражданин сделал довольно неприличный жест и при этом словесно прокомментировал, где он видал их всех троих.
— Это уже перебор, гражданин! – сказал тот, что стоял посередине.
И положил руку на плечо распоясавшемуся гражданину. Рука его лежала уверенно, но твердо. Хулиган, будем так называть веселого человека, потому что поведение его было явно хулиганским, тяжело задышал. Так дышит бык, прежде чем броситься на матадора.
— Пройдемте, гражданин, в отделение!
— Лапу убрал, сопляк! Ты знаешь, с кем связался. Тебе лучше этого не знать. Да от тебя мокрого места не останется. До скончания лет своих будешь жалеть! Да я вас всех вертел!
И он снова добавил нецензурное слово. И снова подкрепил его оскорбляющим жестом. Так бы троица словесно повоспитывала веселого гражданина, но после этого одним словесным воспитанием обойтись было невозможно. Гражданин почувствовал, что рука, лежавшая на его плече, сжимается, как пресс, и он уже не может пошевелить даже мизинцем. Руки его превратились в безвольные плети, которыми даже элементарного жеста не изобразишь. Тут его с обеих сторон подхватили подмышки, приподняли, встряхнули и повели. Ему не оставалось ничего иного, как в такт перебирать вслед за их шагами.
— Что творите, козлы вонючие? Среди бела дня ни за что, ни про что хватают рабочего человека и волокут. Граждане! Вы посмотрите, что делается! Это же произвол! Люди добрые! Да вы поглядите только! Я буду жаловаться! Я до генерального секретаря дойду!
Люди добрые останавливались, любовались этой сценкой, улыбались, делились комментариями. Симпатии их были на стороне молодых людей с повязками. На них смотрели как на защитников.
— От этой пьяни проходу не стало. Детей нельзя выпустить на улицу, — сетовали женщины.
В отделении милиции их встретил улыбчивый сержант.
— А вы стахановцы, ребята! – воскликнул дежурный. — Уже третьего за вечер приволокли. Где я их только размещать буду? Как говорится, заставь народных дружинников хулиганов ловить…Такими темпами мы скоро всю преступность в стране ликвидируем. И милиция станет не нужна. Куда же тогда приткнуться моей бедной головушке?
— Куда этого?
— Что натворил?
— Нецензурно выражался, в состоянии алкогольного опьянения, приставал к гражданам, хватал девушек, оскорблял при исполнении неприличными словами и жестами.
Сержант вышел из-за стойки.
— Ну, что, ребята?
Ребята скромно улыбались, молчали и смотрели невинными глазами на блюстителя.
— Сегодня хорошо поработали. Вот еще задержали одного хулигана, который, как я понимаю, оказал сопротивление в виде нецензурных слов и неприличных жестов в присутствии общественности.
— Оказал! – кивнул Миша.
А это был он, спортсмен, перворазрядник, командир ДНД университета, член комитета комсомола.
— Отмечу это в рапорте. Ну, можете отдыхать! Или что там у вас? Подготовка к семинару? Тогда зубрить камень науки. Я хотел сказать, грызть этот самый камень. И не сломать зубы!
Сержант пожал каждому руку. Троица вышла из отделения. Водитель милицейского уазика ходил вокруг машины и поочередно пинал колеса. Повязки они уже сняли и ничем не отличались от других молодых людей, которым так не хотелось сидеть в такой вечер в четырех стенах.
Теплый майский вечер. Девушки переоделись в легкие платья, короткие юбочки и туфли на шпильках, от чего их походка стала просто невыносимо вызывающей. От этого покачивания бедрами можно было сойти с ума. Возвращаться в общежитие, чтобы давить кровать с книжкой перед глазами или занимаясь болтовней с однокомниками, никому не хотелось. Почему они должны себя собственноручно замуровывать в склепе?
Упали на скамейку. Теплый ветерок шевелил их волосы, молодая листва шептала всякие нежные глупости. Было легко и беззаботно. И хотелось одного, чтобы этот вечер не кончался. Птицы заливались круче, чем звезды, которым платят бешенные гонорары. Они же это делают бескорыстно и для всех влюбленных, и озабоченных жизненными невзгодами. Не было усталости, хотя намотали ни один километр.
— Да! – вздохнул Костя-математик. В этом «да» было столько глубокого экзистенционального смысла.
— Опасного бы преступника задержать! Матерого рецидивиста! Который во всесоюзном розыске. Медальку бы точно дали.
— А к ней бы еще и пакет с денежкой, — поддержал Валера-историк. – Вот бы отметили!
— Опасный преступник потому и опасный, что легко можешь получить перышко в бок, — испортил их мечту Миша. — — Конечно, героем хорошо быть, но только не мертвым.
— Даже не хочется думать об экзаменах, о курсовой, — сменил тему Костя. – Это же так и горб можно нажить.
— Чего раньше времени думать? Зачем такой вечер портить? Не умеете вы расслабляться, коллеги!
— Пивка бы сейчас!
Все задумались. Пиво – это хорошо. Когда кругом тепло и легко, не хватает только пива. К тому же, заработали! Выход на дежурство – это раз. Патрулирование парков – это два. Это не просто туда – сюда ходить. А выявлять нарушителей и изолировать их.
— Я ослышался или у тебя, Миша, что-то звенело в кармане? – спросил Костя. – Характерный такой звон. Так могут звенеть только металлические денежные знаки. Или я ошибаюсь?
Миша достал мелочёвку. При участии товарищей пересчитал. Хотя и считать-то особо было нечего.
На бутылку хватит и на коробок спичек. На троих бутылка пива – это издевательство и лицемерие. Даже не стоит губ мочить, пробуждать в себе несбывшиеся желания.
Поскребли в своих карманах, набралось на три бутылки. Это уже нечто, но очень маленькое. Они же не семиклассники какие-то, чтобы выпить по бутылке пива, а потом гонять мелюзгу. Ротовую полость только смочишь. И не более того. А это обидно.
— Какой сегодня день? – спросил Миша. – Четверг, говорите? Четверг – это хорошо!
Призадумался, шевелил губами, загибал пальцы, потом лицо его осветлилось улыбкой. Товарищи на эти манипуляции смотрели с недоумением. Сложна восточная натура.
— Нам, ребята, повезло. Сегодня Томкина смена.
— И что с того? – спросили друзья. – Что нам Томкина смена? Какое она имеет к нам отношение?
— Будет нам пиво! Ну, чего сидим? Идем!
— Куда идем? Кажется, и так уже сегодня находились. Надо дать ногам и телам какой-нибудь отдых.
Нужно идти к магазинчику с буфетом возле ВЦ. Они там постоянно перекусывали, когда на первом курсе учились в ВЦ. Пятнадцать минут, если не торопясь, ходьбы. А Томка – это одна из многочисленных подруг Миши, которого ради него не то, что пиво, но и магазин вместе со всем его содержимым отдаст. Сегодня как раз выходила ее смена по Мишиным расчетам. Вот такое получалось везение.
Мишиному свидание решили не мешать. Зачем стоять рядом? Это же неделикатно. Пусть поворкуют влюбленные голубки. Они подождут на скамейке на улице. Всех своих девушек Миша любил искренне и нежно. И они отвечали ему взаимностью.
— Может быть, не получится, — сказал Костя вяло, когда они ждали Мишу на скамейке, рассматривая проезжавшие автомобили. — Что-то не верится мне в эту авантюру.
— Не получится? Почему? – спросил напарник.
— Ну, элементарно. Не будет пива. Всё же вечер. А к вечеру обычно всё расхватывают.
— Ты просто не знаешь нашу торговлю. В любой торговой точке продавцы оставляют товары повышенного спроса для себя, для родных, для знакомых, для начальства, для блатных. Если на прилавке нет товара, это не значит, что его нет в магазине. Таков закон советской торговли. Он соблюдается от сельпо до крупных универсамов.
— Денег-то у нас на три бутылки всего. Чего она из своего кармана будет раскошеливаться? Ну, Мише, может быть, еще одну добавит за собственный счет. А мы в пролете.
— Опять ты, Костя, не в ту сторону дуешь. Если бы это были мы с тобой, то точно за пиво пришлось бы нам раскошеливаться. По крайней мере, еще ни одна девушка мне не дарила пива.
— Что сидим? Я вам вьючный мул что ли? – раздался Мишин голос за их спиной. – Могли бы и помочь! Как пить, так все, а как таскать, так Миша. Такое у нас разделение труда.
Обернулись, как по команде. Ну, Миша! Ну, гигант! Ну, волшебник! Он даже превзошел их ожидания. Факир настоящий! Он волок две сетки, набитые бутылками пива. Неужели это всё им на троих? Не хотелось даже верить в это чудо. Но иногда чудеса случаются.
— Ну, ты волшебник! Выгреб, наверно, все пиво, весь недельный запас магазина! Ну, даешь!
— Я говорил! А вы сомневались, конечно. А мое слово – олово. Сказал – сделал. А если не сделаю, не буду говорить.
— Деньги, Миша, откуда?
— Обижаете! Угощаю!
— Но тут же на целую команду! – вопили от восторга товарищи. – Это же как мы посидим!
— Ладно! О деньгах не беспокойтесь! Это не ваша забота! Куда идет?
Ну, не в общежитие же, где сразу же набежит толпа халявщиков, так что больше пары глотков не достанется. Такой вариант отпадал решительно, потому что никого не устраивал.
Море! Пляж! Куда ж еще? Лучшего места для такого теплого майского вечера не существует. На пляже тут и там едва прикрытые узкими полосками купальников девушки, еще не успевшие загореть и хранившие зимнюю свежесть, и белизну. Только разглядывание их уже пьянило. Плескались с громкими криками несколько смельчаков. Такие всегда найдутся на любом пляже. Их не остановят даже проплывающие льдины.
Вода еще не прогрелась и обжигала холодом. Но когда это останавливало моржей?
Сидели под крутым берегом, где росла короткая мягкая травка, нежная, как девичья кожа. Оставили по бутылке, остальное опустили в ямку, вырытую возле самой воды, чтобы пиво оставалось холодным. Можно выпить теплую водку, но теплое пиво – никогда. То один, то другой, приложившись к бутылочке, выдыхали:
— Как хорошо!
Да! Это был кайф, о котором мечтают в шумных комнатах общежитий и у плавильных печей.
И любой согласился бы, что хорошо. И не отказался вот так же посидеть у морской кромки. Долг обществу отдан, любуйся на соблазнительные девичьи формы, запивая всё это прохладным пивком. Да любого из нас и уговаривать не надо на такое.
По очереди бегали к воде и возвращались с очередной партией бутылок, время от времени не забывая нахваливать Мишу.
Возле них появился мужичок, которого они прозвали Ёжиком. Его бронзовое лицо было покрыто густой рыжий щетиной. На нём был куцый, лоснившийся от грязи пиджак, тёмно-синие спортивные штаны, галоши на босу ногу. Он, как осторожный зверёк, боялся подойти к ним вплотную и расположился несколько в сторонке, не сводя взгляда с них.
— Что тебе надо?
— Это… ребята, бутылки, того самого, не выбрасывайте!
Он жадным взглядом следил за тем, как они пили пиво. Первым не выдержал Валера, протянул ему недопитую бутылку.
— Мужик! Сделай глоток!
Мужичок схватил бутылку обеими руками и быстро опустошил её в несколько глотков, после чего положил пустую бутылку в карман пиджака.
— Тебе повезло, мужик! Вон сколько бутылок сразу! – сказал Миша.
Ёжик захихикал.
Но всё хорошее когда-то кончается. Закончилось и пиво.
— Как говорится, — сказал Валера, — пиво без водки деньги на ветер.
Поднялись.Не успели они сделать несколько шагов, как Ежик налетел на их место и стал быстро расталкивать бутылки по сеткам, пугливо озираясь, нет ли рядом конкурентов.
Поднимались по узкой тропинке на крутой берег. Костя шел вторым, его качнуло. Хорошо, что Валера успел поддержать его.
Ежик был счастлив. Такая сегодня удача! Обычно за день не набираешь столько! Сдашь, и на фунфырик хватит и на какой-никакой закусон. Так что завтра у него будет с его сожительницей праздник души и тела.
Подъём в отличие от спуска дался ребятам нелегко. Они стояли наверху и тяжело дышали.
— Куда теперь? — спросил Костя.
— Куда? Куда? Туда! Куда же еще! — зло ответил Валера.
— Эх! В девчоночку хорошую б влюбиться! – пропел Миша.
Пересекли лесок и вышли на проспект. Солнце уже скрылось за лесом, залив запад кровавым закатом. Но сумерки еще не начали сгущаться. Такая вечерняя прозрачная дымка. Машин было немного. Редко прошуршит легковушка или, гремя железным кузовом, протарахтит поздний грузовик, который возвращался в гараж на автобазу.
Еще меньше встречных прохожих. Брели, не торопясь, расслабленно. Зачем такой вечер оскорблять суетой? Майский день даже у молодых организмов вытянет силы, опустошит, ослабит, сделает неспособными на трудовые и боевые подвиги, если это, конечно, не касается девушек.
Костя жалобно пропищал:
— Мне бы того-самого. До общежития не дотерплю. Это как чих, не удержишь, как ни старайся.
Известное дело, пиво. Друзья-товарищи переглянулись. Было понятно, что всем надо это самое и до общежития никто терпеть не собирается, поелику сие невозможно.
— Этим архитекторам руки пообрубать надо, — сказал Валера. – Вот понастроили сколько всего, а самого элементарного — сортиров не смогли сделать, как будто здесь не живые люди, а бесплотные ангелы будут жить. О людях надо думать в первую очередь. Об их естественных потребностях.
Миша кивнул.
— Представь, показывают первому секретарю обкома мает будущего городка. Вот НИИ! Вот студенческий городок, вот ресторан «Золотая долина» и гостиница с номерами для иностранцев. «Постой! – перебивает его первый секретарь. – А это что за маленькие домики такие? В разных местах понатыканы. На трансформаторные будки не похожи». «Это, товарищ первый секретарь, так сказать, домики для отправления естественных нужд проживающего и приезжающего сюда населения. Туалеты, так сказать».
— Что же теперь в штаны справлять эту нужду, — прорычал Костя, — если наши архитекторы такие деликатные?
— Вон!
Впереди маячила автобусная остановка из добротного кирпича. Она закрывала вид с дороги и тротуара. Был поздний час, поэтому ни души. Они ускорили шаг до заветной цели. Последние метры преодолели трусцой. Встали у задней стены и, как по команде, расстегнули брюки. Со стороны леса их могли увидеть только белки и бурундуки. Весенний тихий вечер наполнился рокотом Ниагарского водопада и счастливыми стонами. Всё-таки есть в мире счастье, простое, обыденное, плотское, после которого душа воспаряет.
У древних римлян было такое выражение «волк из басни». Это о неприятном персонаже, который появляется именно в такой момент, когда его совсем не ждут, чем он доставляет большое огорчение. Вот и нашу троицу ожидал этот басенный персонаж, только реальный, во плоти, к тому же облаченный властью и правом карать и миловать. Они приводили себя в порядок, чтобы продолжить путь до общежития, где их ждали низкие кровати и приятные воспоминания о вечере, проведенном с пользой для души и тела. Застегивали пуговицы, заправляли рубахи под ремни.
— Нарушаем, граждане!
Они обернулись разом, как по команде. Если бы с небес раздался гром, они бы так не напугались. Откуда он появился? Упал с неба? Сидел в придорожных кустах в засаде, выжидая нарушителей общественного порядка? И вот они, голубчики, попались! Перед ними стоял милиционер. У него было всё, что положено: форма, погоны, свирепое выражение лица и даже кобура на боку, в которой, возможно, покоилось до поры до времени огнестрельное оружие. Это обстоятельство больше всего опечалило друзей, потому что первым побуждением было задать стрекоча. Но пуля летит быстрее.
— Это…
— В общественном месте устроить такое! Это расценивается как мелкое хулиганство. С возможным причинением вреда общенародной собственности в лице остановки. Статья… статью вам скажут в отделении.
— Товарищ милиционер! — заканючили они. – Простите нас, пожалуйста! Мы больше никогда не будем! Пива выпили. Сами должны понимать. До общежития бы не вытерпели. Организм бы просто не выдержал. А это необратимые последствия. Возможно со смертельным исходом.
— Так мы еще и в нетрезвом состоянии? А это статья… В отделении вам скажут. Сами идет или наряд вызывать?
— Наряда не надо! Ну, будьте человеком! Что ж нам в штаны что ли? Это же негигиенично.
— Лес же рядом. А вы прямо на остановке. В общественном месте, так сказать. Оскорбляете человеческое достоинство, так сказать, непотребными антиобщественными действиями.
Миша вытаращил глаза.
— Лес? Да это же живые существа! Да чтобы я на живое существо? Я не убийца какой-нибудь! Пусть у меня лучше мочевой пузырь лопнет! Пусть я лучше сквозь землю провалюсь!
— Следуем! А то еще и оказание сопротивления работникам правопорядка добавлю. А это уже серьезная статья. В отделении вам скажут какая.
Дежурный сержант поднял голову. И с удивлением уставился на них. Вроде бы окончательно распрощались. Удивление сменилось восторгом. Ребята не могли появиться здесь случайно.
— Опять вы? Кого-то задержали? Ну, вам ордена уже пора выдавать, неугомонные вы мои!
Милиционер, приведший их в отделение, кивнул:
— Ага! Ордена на арест! Честно заслужили, ни отнять, ни прибавить! Постарались, так сказать!
— Арест? Ты чего молотишь? Да это лучшие друзья милиции! – возмутился сержант.
— Какие они нам друзья, не знаю. А вот остановочный павильон чуть не унесся в пенистом бурлящем потоке. А виновниками этого события могли стать вот эти три богатыря.
Он поведал о том, за что задержал троицу. Лицо сержанта то кривилось, то разглаживалось. В конце концов, он засмеялся. Коллега посмотрел на него с недоумением. Рукавом вытер глаза.
— Ну, чего вы, ребята, в лесок не могли отойти? Обязательно надо было остановку поливать?
Опять Миша возмутился:
— На живое дерево? Знаете, что у нас за это делают: отрезают хозяйство вместе с головой. Как только у вас язык поворачивается предложить такое святотатство, издевательство над живым?
— Будем оформлять протокол? – спросил милиционер, приведший их. Ему лишняя галочка в отчете не мешала.
— Ты чего? Идиот? Если мы всех будем тащить, кто мочится на улице, то нам и настоящими преступниками некогда будет заниматься. Ты хочешь, чтобы над тобой смеялись? Они, кстати, сегодня задержали реального хулигана в отличии от некоторых. С судимостью мужик. Проявили, так сказать, мужество. А ты их за то… тьфу ты! На этих орлов, героев хочешь оформить протокол за то, что они побрызгали на стенку? Кем тебя после этого называть? Ты с головой-то хоть дружишь?
— Нет так нет! Я-то чо?
— Ну, так вот! Иди! И наблюдай за порядком на вверенной тебе территории. А не занимайся фигней!
— Вам виднее!
Сержант вышел из-за стойки и уже второй раз за день пожал им руки. На этот раз еще крепче.
— Ребята! Не обижайтесь на него! Идиотов везде хватает. Вот и воспитывай таких. Трудная у нас работа.
Уж точно теперь в общежитие. Да и темнело. Пока дойдут, совсем стемнеет. День прошел. Завтра лекции, семинары, обычная студенческая рутина. А душа просит праздника.
Кстати
ДНД (voluntary people‘s guard) – это добровольная дружина, добровольные помощники милиции. Рабочие и служащие шли в дружинники, потому что за день дежурства можно было заработать день отпуска или отгула. Кроме того, когда рассматривался вопрос о премии, об очереди на квартиру или машину, учитывалось и участие в дружине. Кто-то за отгул сдавал кровь, а кто-то с красной повязкой на руке портил ее другим. Шли в дружинники и студенты. Особенно спортсмены. И это была реальная сила, как бы кто-то ни пытался кривить при этом мускулы лица.
Люди за сорок лет прекрасно помнят ДНД – добровольные народные дружны – некоторое подобие сил правопорядка, помощников милиции. Сейчас уже не секрет, что вся эта «контора» была по большей части, показухой, за участие в которой можно было заработать день отгула и некоторые преференции по служебной линии. Практически день донора, только с повязкой на рукаве. Упоминая в этом контексте студенческих дружинников, можно предположить, что это вообще была безумная профанация. Но на деле все оказалось ровно наоборот – студенческие оперативные отряды, празднующие в эти дни шестидесятилетний юбилей, были реальной силой. Со своими героями – самыми настоящими – и традициями, над которыми время оказалось не властно.
Каждый новичок привлекался только по рекомендации уже действующего члена отряда. В обязательном порядке проверялось знание Уголовного и Административного кодексов, оценивалась физическая готовность кандидатов. Обязательной была и сдача «кандидатского стажа» — прохождение «рекрутской подготовки», умение работать оперативным сотрудником в реальных городских условиях, то есть в жесткой связке. На дежурство в определенный район выходила группа примерно из пятнадцати — двадцати человек. При этом все работали в «двойках», следовали друг за другом, отслеживали маневры, следили за тайными знаками.
Представьте простую жизненную ситуацию. Идет пара дружинников, а на лавочке молодежь пиво пьет. Одним замечание сделаешь – они успокоятся, а другие за ножи и палки схватятся. И общающаяся с правонарушителями «двойка» в случае чего должна дать незаметный знак идущими за ними. Чтобы они пришли на помощь.
Тесно сотрудничали с милицией, другими службами правопорядка. Дело-то было общее. Оперативник, где бы ни находился, всегда был готов встать на защиту справедливости и закона.
Надо отдать должное – относились временами по-отечески. По-доброму. Хотя… Было всякое, но люди (с обеих сторон) знали, что это дело чести, совести, и оно должно быть сделано хорошо. Студенческие отряды дружинников были созданы не просто на гребне моды, а скорее, от безысходности.
В рядах дружинников были самые лучшие, самые сильные. Парни, которые занимаются спортом, не пьют и не курят. Они, может быть, мало популярны в обществе, но это элита: люди, сильные духом, телом, светлыми помыслами, которые неизбежно собираются вместе.
(Виталий Злодеев. Сильные духом всегда найдут друг друга. – Советская Сибирь, 24 апреля 2010 г.)
25
ДОСТАЛ!
Евсюков был не просто отличником в школе. Всё-таки это уж и не такая невидаль. Хотя и не повсеместное явление. Но в каждом классе хотя бы один – два отличника есть.
Он был исследователем с критическим наклоном. А это уже не всем нравится. Учителям тоже, хотя по роду своей профессии они должны развивать в своих подопечных именно такой тип мышления. Они и делают это, но до определенного предела, где они считают, что критика уже переходит в критиканство. А это плохо для общества. Валера же привык во всех своих начинаниях ломиться вперед, как медведь через тайгу. И ничто и никто его не могло остановить. Людям такое качество не нравится.
Перейдя из восьмого класса в девятый, он стал на летних каникулах изучать учебник алгебры за девятый класс. Изучал теорию, решал примеры и задачи. И к началу учебного года закончил изучение учебника. Обнаружил в нем несколько десятков ошибок. Это его очень озадачило. И он решил своим открытием поделиться с учительницей математики. Это были не опечатки. Опечатки – дело невинное. С кем не бывает? Как говорится, и на старуху бывает проруха. Наверно, даже существовали какие-то нормы для опечаток. Это были именно ошибки. Список ошибок с указанием страниц он и выложил на учительский стол после первого урока математики. Учительница поглядела на список, потом на Валеру непонимающим взглядом.
— Может быть, Валера, ты сам ошибся и зря винишь авторов учебника? – спросила она наконец. – С такими вещами нужно быть супераккуратными. Семь раз замерь, один раз отрежь. Новый материал, мы его еще не изучали. Возможно, что ты чего-то не понял или не так понял, как надо, и посчитал, что это ошибка. Хотя на самом деле никакой ошибки нет.
Валера слушал, насупившись.
— Учебник – не просто книга. Его проверяют ученые, консультанты, специалисты, вычитывают каждое слово, каждый знак пунктуации проверяют, чтобы все запятые и точки стояли как положено. Макет учебника рассматривают на ученом совете. Он проходит редактуру, его проверяют корректоры. Художники делают оформление. Ошибки тут в принципе не должно быть. Бывают досадные опечатки по вине типографии. Наборщик случайно перепутал литеры. Из-за усталости, например. Их довольно скоро обнаруживают и делают вклейку в каждый учебник в конце с указанием опечаток и страниц. В следующем издании эти опечатки убирают. В учебнике нет такой вклейки.
— И все же, Вера Сергеевна, посмотрите мой список! – настаивал Валера. – Если вас это не затруднит.
— Хорошо, Валерочка! Обязательно посмотрю. Может быть, даже сегодня вечером.
Тетрадок еще не было, так что вечер у Веры Сергеевны получался свободным, если, конечно, не считать семью.
— Сообщу немедленно тебе результаты!
И что же вы думаете? Вечером этого же дня Вера Сергеевна села со списком и учебником. К ужасу Вера Сергеевна убедилась, что Валера прав. Она столько лет занималась по этому учебнику и никаких ошибок не находила.
Были ошибки даже такого рода. В конце учебника давались ответы на примеры и задачи. Хотя Вере Сергеевне, да и другим математикам не нравилось, что авторы учебника так делают. Не рекомендовалось сразу заглядывать в ответы. Решил, тогда погляди. Сошлось с ответом учебника – молодец! Не сошлось –решай заново, пока не получишь верный ответ.
Если ответ неверный, безответственный ученик просто подгонит под него решение. Хотя тут тоже нужно поупражняться, подобрать нужные цифры и математические знаки. Добросовестный же будет упорно решать и перерешивать, испишет килограммы бумаги, будет впадать в отчаяние. И браться снова и снова. Сидеть часами.
Чувствительная натура может взвыть от отчаяния. А это чревато. Детей доводить до такого состояния антипедагогично.
Вера Сергеевна обхватила голову. Ведь по этому учебнику занимаются сотни тысяч учеников. Неужели никто не замечал этих ошибок?
Хотя она же вот не замечала. Написать в редакцию? Или куда там? В Академию педагогических наук? Там, наверняка, есть какой-нибудь комитет, который занимается школьными учебниками. Надо всё обдумать. Торопиться тут нельзя. Ведь за учебником стоят маститые ученые, методисты, заслуженные учителя, которые первыми на практике опробовали этот учебник. Что же? Какой-то ученик изобличает их в ошибках, чуть ли не в невежестве? Это какой же удар по самолюбию, по профессиональной чести? Тут торопиться никак нельзя. Надо посоветоваться. Ох, Валера! и задал же ты делов!
Пошла к завучу.
— Евсюков говорите? От того можно всего ожидать, — проговорила завуч таким тоном, как будто речь шла о злостном хулигане. – И что он опять там утворил? гордость нашей школы? Это точно ошибки? Вы сами не ошибаетесь?
— Увы, Елена Владимировна! Проверила на несколько раз. Всё так и есть. Порой довольно грубые ошибки.
— Ситуация весьма щекотливая. Это хорошо, что вы не стали никуда писать и вообще поднимать шума. Мы маленькие люди. Нам ли замахиваться на таких мастодонтов? За учебниками стоят такие фигуры!
Елена Владимировна закатила глаза к потолку. Вера Сергеевна вздохнула. Не было печали…
— Пока не будем афишировать. Я поговорю с методистами из районо. Зачем нам эта головная боль?
Завметодкабинетом отнеслась к сообщению спокойно.
— Ну, что же! Дело житейское! А вы что же думали, что там на верху небожители сидят?
— Ну, — замялась завуч школы.
— Надо оформить, как следует, и отослать в министерство. Ошибки в учебнике, конечно, недопустимы. Ну, что вы! Какой шум? Никакого шума не будет, потому что он никому не нужен. Думаете, академики, доктора наук могут ошибаться? Это мы с вами можем ошибаться. Они же нет. Все спишут на стрелочника, как и везде и всегда. «По вине типографии в такое-то издание вкрались следующие ошибки, которые будут исправлены в следующем издании». Разумеется, никаких учеников. Оформим это проколом заседания методического объединения учителей математики района. Еще и похвалу заслужим за то, что не теряем бдительности и помогли, так сказать, во всесоюзном масштабе.
Валера, не вступив еще во взрослую жизнь, вошел в анналы истории, хотя имя его там и не значилось. Математика для Валеры не была главной. Он уже с класса пятого, наверно, твердо решил стать историком, в то время как мальчишки его возраста мечтали стать космонавтами, капитанами дальнего плавания и даже пожарными. История представлялась ему самой интересной сферой деятельности, перед которой другие науки меркли, ибо не могли доставить такого наслаждения как исторические открытия.
Во-первых, работа у историка такая же, как и у следователя. И тот, и другой имеют уравнение со многими неизвестными. Имеешь какой-то факт, должен найти свидетелей, отделить истину от лжи, установить мотивы каждого участника события, их роль в происшедшем. Во-вторых, историк имеет дело с живыми людьми, с их характерами, симпатиями, антипатиями, которые действуют зачастую вопреки всякой логике, подчиняясь страстям, эмоциям, совершают предательство, идут на самопожертвование.
В естественно-математических науках всегда действуют строгие законы и прямая – это самая короткая линия между двумя точками. Никто не смеет оспаривать аксиом. В истории есть какие-то общие закономерности, тенденции, причинно-следственные связи. но очень силен личностный фактор. Зачастую не то, что какая-то великая личность, правитель или государственный деятель, но и рядовой человек может повлиять на ход события, после чего история сделает невероятный зигзаг. Этой своей непредсказуемостью, многомерностью и интересна история, в которой законы логики нарушаются сплошь и рядом. И не только логики, но и здравого смысла.
В-третьих, что больше всего и привлекало критический ум Валеры, в истории, как нигде, больше всего темных пятен. Даже то, о чем написаны горы книг, вызывает сомнение. Появлялись новые факты и уже известные события выглядели иначе. Всё в истории неустойчиво и зыбко, как болотная зыбь, которая кажется твердым зеленым ковром, но ступил и провалился. Здесь постоянные заинтересованные участники и свидетели, которые стремились к тому, чтобы событие выглядело именно так, как им хотелось. И они пускались во все тяжкие, переписывая под себя исторический факт.
Ни одному источнику нельзя полностью доверять. Каждую строку в нем нужно подвергать сомнению.
Постоянно нужно искать новые свидетельства, которые бы подтверждали описанный факт или опровергали его, или вносили новые оттенки, и картинка становилась бы более многокрасочной.
Валера запоем читал исторические романы, научно-популярные книги, школьные и вузовские учебники. Серия «ЖЗЛ» была его любимой. Когда на уроке начинали изучать очередную тему, Валера уже успевал прочитать кучу книг об этом периоде или событии. И поэтому изложение в учебники или учителя представлялось ему крайне куцым. Порой это событие в его глазах выглядело не совсем так, как оно было изложено в учебнике. Краткость – не всегда сестра таланта, особенно, когда речь идет об эпохальных событиях.
Учителю истории только бы радоваться и молиться на такого ученика. Такие, как Валера, крайняя редкость.
Валера участвовал и побеждал на всех конкурсах, викторинах и олимпиадах по истории. Грамотами, вместо обоев, можно было заклеить целую стену в его комнате. Учителя его называли «наш Ключевский». Лучше было не спрашивать его на уроках, потому что ему и урока не хватило бы, чтобы рассказать по этой теме. Но Валера и не стремился к этому. Он понимал, что он не один в классе, что учебный процесс – это прежде всего коллективный процесс, что учитель может заочно выставить ему отличные оценки вперед за год, даже не спрашивая его. Выскочкой Валера не был.
В общем вел себя довольно скромно, но и в обиду никогда не давал. Как пишется в характеристиках, «среди одноклассников пользуется уважением». Он не кичился знаниями, никогда не перебивал учителя и не делал ему замечания, когда тот допускал ляпы и откровенные ошибки, от которых Валеру коробила, как дирижера, который в слаженном оркестре инструментов вдруг услышит фальшивую ноту. Валера морщился, вздыхал, опускал голову. Ему было неловко поглядеть в глаза учителю.
Не мог же он всё это держать в себе? Поэтому для учителя истории он всегда был головной болью, занозой, раздражителем, фактором, который опрокидывал привычную картину мира, не соглашался с тем, что уже стало шаблоном, чуть ли не священным местом, тем, что называют в математике аксиомой, а в философии абсолютной истиной.
Когда звенел звонок с урока, и Валера направлялся к учительскому столу, сердце учителя сжималось, ему хотелось быстрей всё схватить, затолкать и выскочить из класса еще до того, как приблизится Валера. Но ни разу не получалось такое. Валера подходил, поднимал голову и глядел ему в глаза. учитель обреченно косился в угол, боясь встретить взгляд ученика.
— Владимир Васильевич! – начинал Валера. Он скромно улыбался. И от этой улыбки Владимиру Васильевичу совсем становилось не по себе. – Вы рассказывали о татаро-монгольском нашествии на Русь, о том, что захватчики разрушили и сожгли все города, оставив после себя пепел и горы трупов, не считая, конечно, тех, кого угнали в рабство. Русская земля обезлюдела. И удивительно, как она вообще не исчезла. А ведь это противоречит элементарному здравому смыслу. Монголы выглядят как безжалостные маньяки-убийцы. Зачем им нужно было завоевывать другие страны, покорять народы, чтобы всё превращать в пепел и прах? Какая-то паранойя. Монголами двигала жажда обогащения. Но если ты всё сжег, всех истребил, то ты ничего не получил. Напротив, только понес потери. Ради чего спрашивается? Чтобы просто повоевать, удовлетворить жажду крови, скинуть разрушительную энергию? Им была не нужна сожженная, разоренная, обезлюдевшая Русь, с которой они уже ничего не могли получить. К чему нести такие тяготы и потери? Монголам была нужна страна, в которой бы развивались ремесла, сельское хозяйство, торговля, с послушными правителями, колония, с которой они получали бы доход в казну. С покойника же и нищеброда брать-то нечего. А с колонии они получали бы доход в виде десятины, который на Руси назывался ордынским выходом. Сейчас подоходный налог государство берет больше, чем монголы с покоренных народов, но никому и в голову не придет называть это игом. Когда Батый подходил к очередному городу, центру княжества, он первым делом посылал послов, которые требовали десятой доли ото всего и, разумеется, покорности. Взамен обещал не захватывать и не разорять город и княжество, подвластное ему. Когда отказывались принять это требование, начинался штурм. И тогда уже не было пощады никому. С непокорными монголы расправлялись жестоко. Поведение монгольского хана было логичным. Те, кто сопротивляется его воле, обрекались на смерть или унизительное рабство. Чтобы другим было неповадно. Чтобы они знали, что ожидает их, если они не примут требования монголов. Ужас, по-французски «террор», был возведен в государственную практику.
— Что же, Валера, получается? Ты считаешь, что лучше бы было, если наши князья выбрали покорность и не оказывали сопротивления захватчикам, добровольно сдавая города? Когда приходит завоеватель, нужно давать ему отпор. Иначе такой народ обречен. Князья, их дружины, горожане сражались героически, проявляли чудеса храбрости. Если бы к их героизму еще и государственный ум, масштабное политическое мышление. Русские князья не объединились, не прекратили распрей, не послали свои дружины на помощь. И даже злорадствовали, когда монголы разоряли соседнее княжество. Разве непонятно было, что противостоять многочисленному, закаленному в боях, дисциплинированному и подчиняющемуся единому командованию войску невозможно, особенно если каждый князь действует на свой страх и риск: не понимали? То тогда какие же они полководцы и политики? А если понимали, то выходят, что они сознательно шли на самоубийство и истребление мирного населения. Как быть с моральным оправданием, если ты обрекаешь на верную гибель собственных подданных? Самоубийственный патриотизм, выходит? Потом Александр Невский будет проводить осторожную взвешенную политику по отношению к монголам. А вот с западными рыцарями-крестоносцами будет героически бороться и побеждать.
Поступил Валера в университет без особого труда.
Во всех вузах страны студенты первого курса изучают историю партии, по которому сдают государственный экзамен. Многие студенты считали этот курс скучным. Бесконечные съезды, конференции, пленумы, внутрипартийная и межпартийная борьба плюс обязательное конспектирование работ Ленина, по которым проводили семинары…
На первой же лекции по истории партии преподаватель, он же был и деканом гуманитарного факультета, начал с предостережения. На его лице была постоянная легкая улыбка.
— В прошедшем учебном году в университете была раскрыта подпольная группа. Да-да! Вы удивлены? Многие тоже удивились, когда узнали об этом. Вроде какие в наше время подпольщики? Нет они не готовили восстания против советской власти, не запасались оружием, не вели антисоветской пропаганды. Так что антисоветчиками их назвать нельзя. Молодые люди, а это были студенты с разных факультетов, назвали свою группу «Союз борьбы за освобождение советского народа». Вам, конечно, интересно знать, от кого же они собирались освободить наш народ? У них был устав, программа. Любопытные документы, хотя и довольно безграмотные. У них в программе записано, что они должны освободить советский народ от бюрократизма, демагогии и догматизма. Такая довольно привлекательная цель.
— Что же тут такого? Разве это не так? – кто-то выкрикнул из зала. – Разве этого нет в нашей жизни?
— Не так, молодые люди! И бюрократизма, и демагогия, и догматизм, присутствуют в нашей действительности. Никто никогда не отрицал этого. И не лакировал советский строй. Партия не запрещает критики, открыто говорит о недостатках и пороках. И борется с ними. Это очень трудная и сложная борьба. Но она ведется.
Иван Афанасьевич всё с той же улыбкой единственным живым глазом обвел аудиторию и продолжил:
— И совершенно не нужно создавать тайных организаций по борьбе с общественными пороками. Это не наш путь. Он ошибочный и вредный и ведет в тупик. У нас достаточно общественных механизмов: печать, народный контроль, партийные и профсоюзные организации. Суд, в конце концов, и прокуратура, а общественное мнение? На партийные и комсомольские собрания приглашаются и беспартийные. Пожалуйста, приходите, высказывайте свое мнение, излагайте критику. К чему приводят тайность и подпольщина? К изоляции от общества, к проникновению в их среду вредных идей. К скатыванию в мелкобуржуазное болото, а в последствии и к антисоветской деятельности. Таких примеров достаточно много в нашей действительности. Накануне первого мая они расклеили в студенческих общежитиях листовки с призывом прийти на демонстрацию с неприемлемыми лозунгами. Так уже поступают враги советской власти. А с ними у нас ведется безжалостная борьба. Органами были установлены участники союза, у них произвели обыски. Была обнаружена запрещенная литература, так называемый самиздат и тамиздат. Нам прекрасно известна направленность этой литературы, которую пишут враги советской власти. Участники организации исключены из комсомола и отчислены из университета. Хорошо, что они не успели натворить еще чего-нибудь более страшного.
Раздался голос из зала:
— А правда, Иван Афанасьевич, что в «пятерке» был еще один союз? И тоже подпольный, тайный?
— Вы какой союз имеете в виду?
— Союз борьбы за сексуальную свободу. А то ходят такие слухи. Или, может быть, сочиняют?
Иван Афанасьевич продолжал улыбаться.
— Молодые люди! – проговорил он спокойно. Вывести его из себя казалось делом невозможным.
Живой его глаз скользил по аудитории. Другой стеклянный неподвижно смотрел в одну точку. Сначала это производило впечатление. Но скоро новобранцы привыкли.
— Понимаю, возраст, энергия хлещет через край, ищет выхода, чего-то яркого, впечатлительного. Чего-то нового хочется, захватывающего, проявить себя, чтобы о тебе заговорили, чтобы девушки оглядывались, когда ты проходишь мимо и шептались между собой. Нужно и головой думать. Здесь не глупые люди собрались, будущие ученые. Вы будете развивать науку, руководить коллективами, определять политику нашей страны. Из этих стен уже немало вышло людей, которыми мы можем гордиться. У вас достаточно возможностей, чтобы стать очень ценным и полезным членом общества. У нас широкое поле для легальной и вполне законной деятельности, для проявления общественной активности. Как говорится, «молодым везде у нас дорога». У меня всё. Думаю, что вы поняли, что это предостережение. Не делайте глупостей! Так легко себе сломать жизнь и карьеру. Так что думайте, прежде чем что-то сделать.
Тут поднялся Валера.
— Иван Афанасьевич! У нас в стране демократия. А демократия предполагает гражданскую активность. Почему же граждане не могут объединяться, создавать какую-то политическую партию, общественную организация? Да хотя бы клубы по интересам? Если бы у тех же ребят из «Союза борьбы» была такая возможность, они бы не создавали подпольную организацию, не действовали бы тайно, а открыто пропагандировали свои взгляды. Обратились бы с заявлением, представили бы документы и действовали вполне открыто. Значит, они не верили, что их могут зарегистрировать. В РСДРП с самого момента создания шла открытая борьба мнений, высказывались различные взгляды, велась полемика. И порой очень острая, что и привело к расколу партии. На втором съезде партии, организационном, фактически образовалось две партии: большевиков и меньшевиков. Да и среди большевиков не было единства.
Иван Афанасьевич кинул. Но перебивать не стал.
— И по каждому вопросу шли споры, не была единства. Такие кипели бури и страсти! Сейчас тишь и гладь и Божья благодать! Прошел съезд или пленум. И все голосуют единогласно. Неужели не о чем спорить? Или споры в партии запрещены? Есть единственная линия и другой не может быть?
Ничто не могло вывести Ивана Афанасьевича из себя. Он слушал спокойно и улыбался. Как будто перед ним был несмышлёный малыш. Когда Валера замолчал, он спросил:
— Молодой человек! Я думаю вам известно имя Екатерины Второй, императрицы российской?
Валера пожал плечами, не понимая, к чему он клонит.
— В российской истории лишь два правителя получили прозвище Великих за те дела, которые они сделали для России. Это Петр Первый и Екатерина Вторая. Я думаю, что при всей противоречивости этой фигуры и ее политики, она вполне заслужила такой титул. И во внешней и во внутренней политики у нее были такие достижения! Известно, что Екатерина была сторонницей просвещенного абсолютизма. Читала труды просветителей. С некоторыми французскими философами состояла в переписке. Хотела даже даровать России нечто вроде конституции и отменить крепостное право. Но посчитала это преждевременным. Страна еще не была готова к этому. При дворе у нее долго гостили европейцы-республиканцы, с которыми она подолгу беседовала, с чем-то соглашалась, что-то оспаривала. И на вопрос одного из просветителей, почему она не введет в России республиканский строй, она ответила, что, конечно же, республика более отвечает идеалам просвещенного века, поскольку все граждане равны и по мере возможностей участвуют в управлении государством. Но в России в силу огромности ее масштабов лишь сильная монаршая власть является скрепой, которая позволяет сохранить ее единство. Как только в России ослабевала центральная власть, так сразу начиналась смута, которая ставила страну на грань гибели. Не буду проводить параллели между самодержавием и Советским Союзом. Да и дело это неблагодарное. Партия и есть та скрепа, которая позволяет развиваться нашей стране. Уберите эту скрепу, и держава рассыплется, как карточный домик. Поэтому лишь непонимающие люди смеются над лозунгом «Партия – наш рулевой». Нападки наших врагов прежде всего направлены на монополию КПСС. Если разрушить фундамент, то рухнет и все здание.
Валера кивнул.
— Знаете, Иван Афанасьевич, я как-то не думал об этом. Вы высказали мысль, которую нужно обдумать.
— Вы подумайте! Думать никогда не вредно! – напутствовал его Иван Афанасьевич и вышел из аудитории.
Однокурсники переглядывались. Ну, Валера! Уж он точно не даст скучать никому.
Валера
при его критицизме должен был пополнить ряды инакомыслящих. Так многие считали.
К диссидентам Валера относился не то, чтобы с подозрением, но с какой-то брезгливостью, как к нечистоплотным типам, которые пусть и не украдут, но в спину плюнут с удовольствием. Валера говорил про них:
— Они, как невесты на выданье. Хотят привлечь внимание богатого знатного жениха. А здесь все средства хороши. И нельзя ничем брезговать, иначе останешься в старых девах. Для них этот жених – Запад. Чтобы их там заметили, говорили о них в «голосах», писали в западных газетах, брали у них интервью на подпольных квартирах. Меня, что поразило? Хотя «поразило», неправильно сказано. Чего-то такого я ожидал от них.
— Чего же?
— Вы знаете, какие книги читают наши борцы за права человека, оказавшись в заточении? Само собой, уголовный кодекс. Читали бы подпольную литературу, да кто им даст ее. Но обязательно требуют самоучители английского языка. Вот вам и ответ на вопрос, кто они такие и чего они хотят. Надо знать язык господ, чтобы понимать команды.
— Всё-таки им не откажешь в личном мужестве.
— Не откажешь! Объявляют голодовки, требуют адвоката, без которого отказываются отвечать на вопросы. Но они знают, что это будет щедро проплачено, если не деньгами, то вниманием на «голосах», в западной прессе. Самое страшное для них, если о них позабудут.
Последняя апрельская суббота выдалась по-летнему теплой. Солнце ослепляло с раннего утра. Накануне объявили, что занятий не будет, прийти утром к главному корпусу в рабочей одежде. Будет субботник. Студенты радовались. Чем париться в душных аудиториях, лучше уж поработать на свежем воздухе. К тому же смена деятельности – лучший отдых. Каждый коммунистический субботник кому-то или чему-то посвящался. И деньги, заработанные на субботнике, перечислялись в какой-нибудь фонд.
Деньги, заработанные на этом субботнике, должны были пойти в помощь комсомолу Португалии. Для многих стало открытие, что комсомол есть даже в неведомой Португалии. Немало было таких, которые знали о Португалии не больше, чем о какой-нибудь Альта-Центавре. Что это что-то далекое, маленькое и очень непохожее на Россию. Поэтому не имели никакого понятия о том, почему нужно помогать именно комсомолу Португалии, а не шахтерам Англии или грузчикам Германии. Утром перед главным корпусом был небольшой митинг. Рядом с флагом Советского Союза поставили экзотический флаг Португалии. Оказалось, что в Португалии фашистская диктатура, оставшаяся чуть ли не со времен Второй мировой войны.
Пожизненный президент Салазар – это маленький пиренейский Гитлер, который загнал коммунистов и комсомольцев в подполье и по-прежнему гнобит свободолюбивые народы Африки, чтобы сохранить колониальную империю. Кстати, последнюю в мире после того, как рухнули британская и французская империи.
Теперь всё было ясно. Но когда сели в автобусы, которые должны были доставить их на разъезд Иня, оказалось, что не всем всё ясно. Хотя так всегда бывает. Непонятливым оказался Валера. В автобусе раздался его громкий голос. Все замолчали.
— А как же мы им поможем, португальским комсомольцам? Кто-нибудь мне сможет объяснить это? Разведчики привезут им чемоданы денег, заработанных на субботниках? Или сумки с оружием и патронами. Вооружайтесь, ребята, и вперед на проклятую хунту!
— Евсюков! Что ты такой занудливый? Оно тебе надо?
— А что говорил Ленин? Что революцию экспортировать нельзя. Для нее должны созреть объективные условия.
— Ты уже достал! – раздались вопли. – Что за страсть кайф ломать? Такой чудесный день!
Убирали мусор: прошлогоднюю листву, ветки, сгребали в кучи, которые потом забрасывали в кузов самосвала. Вытряхивали в мешки содержимое урн, подбирали бумажки, стекло.
— Изумительно! Достойно удивления! – разглагольствовал Валера. Говорил он громко, и голос его разносился по окрестности. Так что его могли слышать, если и не все, то очень многие. – Такое случается редко, когда только одна польза и удовольствие. Хочется воскликнуть вслед за Фаустом: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» Занятия отменили, поработали на свежем воздухе, помогли комсомолу Португалии, очистили площадь, равную территории такого государства, как Ватикан. Да здравствуют комсомольцы Португалии! Долой кровавую хунту! Но пазаран! Лучше умереть, стоя, чем жить на коленях! Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!
— Уймись ты, Евсюков!
Тут к нему подошел Петров.
— Правильную линию проводишь, Евсюков! Одобряю целиком и полностью, поддерживаю! Одно только до тебя не доходит.
— Чего это до меня не доходит?
— Отметить надо солидарность с комсомолом Португалии. Иначе нас не поймут мужественные борцы с фашистской диктатурой. Получается какой-то ревизионизм сплошной.
— Предлагаешь митинг провести? Так вроде бы как с утра провели такой митинг, всё разъяснили.
— Да! Митинг! У речки, на травке. Костерок разведем. Как у тебя с денежными средствами? Надеюсь ты их не стал сдавать в фонд помощи борющемуся комсомолу Португалии?
— Нет! Не густо, но имеется.
— Ну, а чего стоишь! На бочку! Сейчас еще пошукаю настоящих пролетарских интернационалистов, у которых душа горит за дело освобождения Португалии от фашизма.
Петров высыпал мелочь в карман и помчался организовывать митинг у речки. То тут, то там слышался его призывной глас.
Пили крепленный портвейн. С Ини потягивало прохладой. Весело трещал костерок. Искры взлетали и лопались как маленькие петарды. Получалось что-то вроде победного салюта.
— Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов! –
Хриплым голосом затянул Петров. Сначала на него посмотрели с удивлением. Но таков был Петров, чтобы удивлять всех.
— Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!
Грянуло над крутыми берегами Ини.
26
ВАРЕНЬЕ. РАССКАЗ ТОЛИ
После первого курса поехали мы на фольклорную практику на Алтай. Записывали у местных жителей песни, частушки, былички. А четверокурсники рыскали в поисках старинных книг и икон. Стояли знойные июльские дни. Благо, что неподалеку от интерната, в который нас поселили, была речка. А как-то мы отправились побродить по холмам, которые начинались неподалеку от села. Из-за валуна вспугнутый нашим появлением вспорхнул орел. Студенты, среди которых по большей части были горожане, видели таких птичек только в зоопарке. Мы долго поднимались вверх, пока не устали. На альпинистские рекорды мы не претендовали, а потому решили отдохнуть на поляне и топать назад. Но какой уж тут отдых! Никогда еще мы не видели такого ягодного изобилия. Некуда было присесть: везде была сочная клубника, млевшая под жарким солнцем. Став на четвереньки, мы набросились на ягоду. Не нужно было даже работать челюстями. Брошенная в рот ягода таяла, как мороженое. С полчаса были слышны только стоны да сопенье. Потом у кого-то прорезался голос:
— Всё! Не могу больше!
— Пойдемте, ребята! Иначе я лопну!
— А может, наберем на варенье! – предложил я.
Никто возражать не стал, потому что все были сыты, но подвигаться минут десять-пятнадцать по поляне еще могли. У нас были баклажки, банки из-под воды, которые мы вскоре и заполнили под завязку. В интернате у тех, кто валялся у речки, не пожелав отправиться на прогулку, сразу разгорелись глазки на наше сокровище, которое они возжелали поглотить в сыром виде. Но я с порога отверг эти гнусные попытки воспользоваться плодами чужих трудов. А то день деньской валялись у речки, а теперь в тенечке, полеживая на постельках, будут забрасывать ягодку за ягодкой в рот!
— Да испортится же! — захныкали они.
— Не испортится! Будем варить варенье!
— Ну-ну! Вольному воля!
Тут же лежебоки утратили всякий интерес к ягоде и занялись своими делами. Я ссыпал всю ягоду в таз и невольно залюбовался этой душистой красной горкой с зеленью плодоножек и листиков. Сбросил несколько жучков. С чего же начать? Всё-таки кое-какой опыт у меня был. В детстве я видел, как бабушка и мама варили варенье, и самоуверенно считал, что этого опыта будет для меня вполне достаточно. Подумаешь, какое великое дело сварить варенье! С чего же всё-таки начать? Первым делом нужно обобрать ягоду, то есть очистить ее от листиков. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы сразу не понять, что это дело весьма долгое и кропотливое. Лучше всего было бы взяться всем вместе. Но на тех, кто был со мной на поляне рассчитывать не приходилось. Они решительно заявили, что больше никогда в жизни не взглянут на эту ягоду, что их тошнит только от одного вида ее. Да и вообще, никакого варенья им не нужно, они его даже в рот не возьмут. Тех же, кто сегодня целый день валялся у речки, а потом на кровати, к ягоде ни в коем случае допускать было нельзя. Но совсем уже по другой причине.
Вздыхая и охая, я принялся в полном одиночестве обирать ягоду. Через час полтора каторжного труда я с прискорбием оглядел тонкий слой чистеньких ягодок, едва прикрывавших дно тазика. При таких темпах я был обречен до самого конца практики на обирание ягоды, и это в то время, когда все будут вести нормальную человеческую жизнь: купаться на речке, травить анекдоты, ходить в сельский клуб на танцы и влюбляться в очередной раз.
Я высыпал назад очищенные ягодки в таз в общую кучу и решительно направился со всем этим добром на кухню. Тааак! Но как же всё-таки варят это чертово варенье? И зачем я только связался с ним? Лежал бы сейчас, как все, на кроватке, почитывал книжечку да болтал бы с остальными однопалатниками. Спрашивать же было неудобно, все бы сразу поняли, что я всего-навсего самозванец.
Так! Так! Так! Кажется, первым делом нужно сварить сироп. Ну, это дело нехитрое! Я налил в кастрюлю воды и бухнул в неё весь собранный у товарищей сахар. Теперь стой себе да помешивай, пока сироп не загустеет.
— Это что же… варенье? — спрашивали зеваки, то и дело заходившие на кухню и заглядывавшие через мое плечо.
— Это сироп! — торжественно отвечал я.
После чего спрашивавшие в задумчивости отходили прочь.
И вот наступил самый ответственный момент. Я высыпал в кипящий сироп всю имевшуюся в наличии ягоду вместе с листиками, веточками, плодоножками и разными жучками-паучками. Пан или пропал! Куча ягод вначале легла пирамидой Хеопса, но постепенно стала расползаться и растекаться по посуде. Я принялся с остервенением всю эту кучу перемешивать, то и дело меняя руку. А что мне еще оставалось делать?
Вскоре от кастрюли стал подниматься запах. Он становился всё сильнее и распространялся всё дальше. В кухне то и дело стали появляться любопытные. Вначале они расплывались в подобострастной улыбке:
— Какой запах! Знатное варенье!
Но после взгляда на варево их энтузиазм мгновенно улетучивался.
— Да ты чего же ягоду вместе с травой варишь?
— Много вы понимаете! – отмахивался я от наседавших. — В листиках, между прочим, дополнительные витамины. Плодоножки же придают варенью специфический вкус. Я вот думаю, не добавить ли сюда еще цветочков!
— Ну, ты вообще!
Любопытствующие отходили и по гримасам на их лицах мне было ясно, что даже под страхом смертной казни они не возьмут ЭТОГО в рот.
Конечно, самым разумным было пойти и вывалить всё ЭТО на улицу на съедение курицам и мухам.
Но из-за упрямства я решил бороться до конца. А вдруг? Мало ли что! Затем немалую роль, наверно, здесь сыграло и желание оттянуть момент расплаты за сахар, все запасы которого я пустил на это проклятое варево.
В кастрюле была уже желеобразная кипящая масса. Я набрался смелости и решился попробовать. В конце концов, скоропостижная смерть могла бы спасти меня от неминуемой расправы. М-м-м! Вроде бы вкусно! По крайней мере, в горячем виде. Я снял кастрюлю с плиты. Пусть остынет! Потом разолью по банкам. А дальше уже будет видно.
Я возвратился в палату, чувствуя смертельную усталость.
На меня в упор глядело несколько пар глаз.
— Ну?
— Что ну? — дерзко спросил я.
— ЭТО готово?
— ЭТО остывает.
— Ну-ну!
Вероятно, сказалось пережитое. Стоило мне упасть на постель, как я мгновенно заснул. До сих пор помню эти сны, яркие, цветные, какие-то киношные. Очнулся я поздним вечером, когда за окном уже синело и в углах интернатовской палаты сгущалась тьма. «Куда же это все, интересно, подевались? — подумал я, оглядывая пустую палату. — Очередной культпоход в кино? Или посиделки на завалинке? Могли бы и меня разбудить! Не по-товарищески как-то получается».
Позевывая и почесываясь, я сполз с железной панцирной кровати и вышел в пустынный коридор, в конце которого тускло светилась лампочка. Не слышалось обычного визга и хихиканья из комнаты, где поселились наши девушки. Я пробормотал себе под нос: «Позабыт, позаброшен». Но, чу! Я услышал голоса. И чем дальше я продвигался по коридору, тем они становились явственнее и громче. Так вот вы где, голубчики! На кухне! Никак уминаете какую-нибудь деревенскую снедь. Я дернул на себя дверь и… Немая сцена! На меня смотрело более десятка человек. У каждого в руках ложка. Щеки моих товарищей были перемазаны вареньем.
Да-да! Тем самым вареньем, которое еще совсем недавно они все дружно хаяли и клялись, что никогда в жизни не возьмут в рот этой гадости. Теперь же в середине кружка у их ног сиротливо стояла совершенно пустая кастрюля. Я застал их за последним актом, когда они жадно доскребывали последние остатки со стен и дна кастрюли.
— Ты уж извини! — наконец-то проговорил один из верных друзей. – О тебе мы как-то и не подумали.
С тех времен минуло уже немало лет. Порой откроешь баночку варенья, которое сварила жена. Съешь ложечку, другую. Вкусно, конечно. Но что-то больше не тянет. И до сих пор жалко, что мне так и не удалось попробовать того варенья, с листиками, веточками, плодоножками. Уж у него-то, несомненно, вкус был совершенно особый!
27
ПРАЗДНИК НАУКИ
Ну, праздник – не праздник. А событие. Причем яркое. А для многих захватывающее. Как для болельщика очередной матч «Спартака» и «Зенита» или еще кого-нибудь.
Для кого-то и поворотное в жизни, поскольку в их судьбе происходит крутой зигзаг.
Происходило оно в конце апреля, когда уже было тепло и птицы прилетели с далеких заморских курортов, чтобы порадовать родные места своим разноголосым пением. Девушки скинули шубы и пальто и обнажили коленки и даже выше коленок. Поэтому кровь бурлит и играет и хочется страсти с пламенными поцелуями. Особенно если ты молод, а лекции и сидение в четырех стенах надоели тебе до чертиков.
Вот в эти дни со всех концов нашей необъятной родины, где в братском союзе сплелись пятнадцать республик, съезжались в Академгородок молодые люди. На поездах, самолетах, автобусах. Только что не в оленьей упряжке.
В гостинице «Золотая долина» никто их не селил, поскольку места были забронированы на год вперед. И чтобы попасть туда вне очереди нужно было по меньшей мере обращение первого секретаря райкома. Или нужно быть большим человеком на своей родине или иностранцем, чтобы получить там номер. Молодые ребята не принадлежали ни к тем, ни к другим. Уплотняли общежития. В комнаты заносили раскладушки. Даже в ленинскую комнату и холл, где проходили собрания и дискотеки. Откуда брались раскладушки в таком количестве оставалось загадкой, как была загадочной и сама фигура заместителя ректора по хозчасти Гросса Адольфа Ивановича, которому вообще-то нужно было при жизни поставить памятник и хоть одну улицу в Академгородке назвать в его честь. Он этого вполне заслужил.
Такая маленькая тенистая улочка с пятиэтажными серыми коробками – Улица Гросса или по-нашенски Гроссштрассе. А что? Звучит очень мило, ласкает слух, даже иностранцев. Не назвали.
В общежитиях, учебных корпусах, на лесных дорожках появилось очень много лиц. Если прожить в Академгородке пару-тройку лет, то незнакомца сразу выделишь среди коренных жителей. А когда много незнакомых лиц, любой понимает, что жизнь гораздо шире, чем Академгородок. И вероятно, там за его пределами есть тоже очень интересные люди.
В четыреста десятой, где проживали четверо второкурсников, поставили две раскладушки и подселили двух пареньков. Всем приходилось ужиматься. И никого не спрашивали, хочет он этого или нет.
Один из Краснодара, высокий и общительный Саша. Другой Костя, низенький и молчаливый, из Воронежа. Хотя они были противоположностями, но дополняли друг друга. Теперь по комнате приходилось перемещаться боком и осторожно, особенно ночью, чтобы не налететь на раскладушки. Поэтому в темноте двигались, вытянув руки. В столовой обеден�