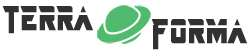Я помню, как лежал на животе перед камином, в котором потрескивали и отдавали жаром дубовые дрова, и смотрел на огонь. В его языках я видел, как мимо меня проносятся вооруженные всадники с поднятыми знаменами, как танцуют великолепные дамы на королевских балах, как раскрывают свои перепончатые крылья огромные чудовища, как сверкают в чьих-то таинственных сокровищницах горы драгоценностей. Какие только фантазии не приходили на мой ум!
В пятнадцатый день моего рождения все переменилось. После обеда в мою честь, когда гости вместе с матушкой удалились в наш небольшой сад с молодыми яблонями и кустами сирени, отец велел оставить все дела и зайти к нему в кабинет. До сих пор мне никогда не позволялось переступать порога этой комнаты, и оттого она казалась мне прекрасной и таинственной, но также и чересчур строгой, как и сама профессия отца. Он работал в городском суде, многие люди в нашем городе относились к нему с огромным почтением, исключением не стали и мы, дети, которых в семье было четверо. Мешать отцу работать было в нашм доме строго запрещено, да мы и не помышляли об этом.
С волнением я коснулся старой медной ручки и отворил дверь.
— Сегодня я хочу поговорить с тобой о будущем, — сказал отец, вставая из-за старого резного стола, на котором резко белел одинокий лист бумаги с недописанным письмом. – Настало время, чтобы ты избрал свой собственный путь. Благо наше семейное состояние не делает тебе больших ограничений. Ты думал, чему ты хочешь обучаться?
Я начал тогда по-юношески горячо и с вдохновением рассказывать ему о своей страсти к истории и книгам. Помню, отец не выразил мне ответного восторга, но и отговаривать меня не стал. Все, что он сделал, это вернулся к столу и приписал в конце письма несколько строк, послее чего запечатал конверт и отдал его мне в руки со словами:
— Береги его. Это письмо откроет двери к твоей мечте. Но отныне ты взрослый человек и сам отвечаешь за свою жизнь. Пусть она будет достойна нашей фамилии, Бартоломео Юстас.
Так в этот день разом закончилось мое детство и началась юность. Я должен был отправиться в Свободный Университет Вилле, который всегда считался одним из лучших учебных заведений на западе материка. Я пропущу то, как прошло троготельное прощание с семьей и то, как я почти неделю ехал в небольшом экипаже, с любопытством прильнув к окну и пытаясь впитать в себя все мельчайшие подробности этого первого в моей жизни длительного путешествия.
Итак, я прибыл в Вилле. Письмо отца, обращенное к ректору, сыграло свою роль, и мне тотчас же был устроен строжайший экзамен. В те годы моя изумительная память позволяла едва ли не дословно цитировать учебники, и свой ответ я держал долго.
— Ну что ж, этот молодой человек, конечно, еще наивен, полон романтических взглядов, как это водится среди молодежи, но и не лишен некоторой логики, — сказал один из слушавших меня профессоров. – Пожалуй, стоит дать ему возможность посещать занятия на выбранном факультете.
Сердце мое при этих словах забилось в два раза быстрее от переполнившей его радости: я стал студентом Свободного Университета Вилле.
Сначала я учился с энтузиазмом, записывал за профессорами каждое слово, с упоением читал книги. Но со временем у меня появилось много приятелей, которые показали мне ту веселую и беззаботную сторону студенческой жизни, которая вспоминается в зрелости не только с некоторым смущением, но и с легким сожалением о безвозвратности минувшего. Были это и шумные пирушки с непристойными шутками и песнями, и разного рода дурачества, отчаянные попойки и первые увлечения девушками. Кто знает, не бросил бы я университет и не променял бы его на эти развлечения, если бы не один случай.
— Бартоломео, как продвигается работа над твоим изысканием? – спросил меня профессор Клеофас Август, один из моих любимейших преподавателей, тот самый человек, который ратовал за меня на вступительном экзамене.
Я со стыдом признался, что работа не продвигается ни на шаг, ибо она не была и начата. Профессор Август вздохнул. На его лице я видел разочарование, и это больно укололо меня.
— Ты все еще хочешь стать хорошим историком? – спросил он.
— Да! – выкрикнул я, словно бросая ему этими словами вызов. – Да, я хочу стать историком! Но я хочу исследовать не ту историю. Все это было недавно, даже забыться толком не успело! Я сплю на лекциях, когда там говорят о появлении парламентов и введении новых земельных законов! Я шел сюда, чтобы найти другое!
— Ты разочаровался в истории? – спокойно спросил профессор Август. Он всегда оставался невозмутимым, и никакие провокации студентов не могли вывести его из этого состояния. “Ах, глупый старый теоретик! – уже который раз я говорил себе о нем в сердцах. – Что он знает о той, живой и таинственной истории, которой я поклялся прослужить свою жизнь?!”
— Я бы хотел, чтобы она была другой! – все так же горячо ответил я.
— Какой же? – поинтересовался он. – Расскажи мне, Бартоломео.
Весь этот разговор состоялся в коридоре, где было шумно и ходили десятки студентов в длинных темных мантиях и лихо заломанных на затылок шапочках-конфедератках. Профессор Август негодующе покачал головой и пригласил меня жестом в один из залов университетской библиотеки, который был как раз неподалеку. Зал был большой, и кроме нас в нем не было почти никого, лишь несколько погруженных в чтение студентов в разных углах помещения. Мы же расположились в центре, где у камина стояла пара кресел. Я помню, что день тот был дождливым, это навевало скуку и раздражение. Я досадовал и на себя, и на весь оставшийся мир, и тем ни менее отклонить предложение преподавателя недолго побеседовать с ним не смог.
— Ну же, Бартоломео, продолжай. Чем обидела тебя история? – спросил Клеофас Август.
Этот вопрос и сам его тон показались мне оскорбительными. Я снова захотел поспорить, и лишь крохотная доля благоразумия заставила меня быть чуть более сдержанным.
— Взгляните, профессор, — сказал я. – Здесь столько книг, но все они написаны о самых рядовых вещах или событиях. Вот, например, “История ткачества”. А вот “История монаршего рода Королевства Трех Рек”. Вот “История языка”, рядом с ней “Развитие купечества и торговли”, а следом “Заметки о первых фабриках”. Какая тоска! От каждой страницы этих книг веет пылью и скукой! Не такой я представлял себе историю! Где тайны? Где загадки? Где интрига?
— А пробовал ли ты, Бартоломео, взглязнуть чуть дальше? – все так же миролюбиво предложил мне профессор Август.
— На следующую полку? – с презрением выпалил я. — Там то же самое – “Хронология становления парламентской монархии”, “История гончарного мастерства”…
— Ты понял меня буквально, — терпеливо улыбнулся Клеофас Август, останавливая меня. — Я имел в виду глубину веков.
О, знал ли он, что задевал тайные струны моей души?! Догадывался ли о том, как святы для меня были легенды о далеком прошлом, которое, однако, было навсегда утеряно от человечества чередой трагических событий? Должно быть, знал. Я распалился еще больше и, думаю, что сильно повысил голос, потому что несколько голов на мгновение поднялись от своих книг и тут же снова опустились над ними, как спящие в полдень совы.
— О том времени почти ничего не осталось, — доказывал я своему преподавателю. – Как же теперь узнать о том, что тогда было?! Вы ведь сами говорили, профессор, что в Большой Войне погибли все первоисточники.
Клеофас Август, нимало не смущенный моими эмоциональными выкриками, негромко, но очень уверенно возразил:
— Однако же ты во время диспута упомянул о том, что есть легенды. И я хорошо помню, как горели при этом твои глаза. Почему бы тебе не взять за тему изыскания какую-нибудь эпоху до Большой Войны? Ту, которая станет тебя вдохновлять. Тем более, что я говорил о гибели не всех, а почти всех первоисточников.
Легко ему, признанному профессору Свободного Университета Вилле, автору двух десятков огромнейших трактатов, было рассказывать об этом. Почему бы не взять? Да потому, что так же много мы знаем о том, что было до сотворения мира, как о том, что было до этой войны. Знаем какие-то крохи — сказки, баллады, отрывки из немногочисленных хроник и слухи, множество самых разнообразных слухов.
— Одно дело – восстановить из глиняных обломков горшки и написать их историю, а другое – узнать, что происходило больше трехсот лет назад! – упрямо возразил ему я.
Профессор Август задумчиво посмотрел на меня. И если бы я увидел тогда в его взгляде хоть долю скепсиса, хоть крохотную песчинку насмешки, то никогда бы не стал слушать его слов. Но глаза его были по-прежнему дружелюбны и безмятежно спокойны.
— Сложно, я с тобой согласен, — проговорил он неспеша. — Но ты откроешь для потомков новую страницу нашего мира. Пообещай мне, что хотя бы попытаешься. А через две недели мы поговорим с тобою снова.
Какими бы внутренними противоречиями ни наполняла меня юность, я все же был достаточно совестливым человеком, и, дав обещание, не мог не исполнить его. На удивление своим приятелям я две недели провел в библиотечных залах. Сначала я читал без интереса, но потом что-то странное произошло внутри меня. Когда я держал в руках одно из старейших изданий старой легенды о Большой Войне, “Легенды о последнем драконе”, мной овладело странное волнение, граничащее с тревогой. Я читал и перечитывал ее несколько десятков раз, хотя и знал содержание с малых лет. Я помнил, как матушка рассказывала ее нам, но тогда легенда звучала совершенно по-иному, очень просто и складно, совершенно сказочно. Теперь же я видел перед собой другой текст. Текст, написанный не для ребенка, но для взрослого человека.
Неожиданно для самого себя я бросился искать другие материалы. Мне удалось найти лишь крохотные крупицы свидетельств того времени. Я долго проклинал ужасными словами пожары, в которых сгорели тысячелетия истории наших предков. Но еще больше я проклинал оставшиеся записи. Читая каждую из них, я всей душой боялся, что вот-вот следующее предложение развеет все мои надежды. Наивные надежды молодого человека, в душе еще наполовину ребенка, до сих пор верящего в волшебство.
За эти две недели я не раз засыпал поздно ночью прямо в библиотеке, сидя над книгами. Мне снились странные, загадочные сны. Я видел Большую Войну, в пожарах которой погибали древние реликвии, рушились замки, кричали от боли и страданий люди. И каждый раз пламя принимало удивительную форму: то на длинной гибкой шее поднималась над ним венценосная голова, то языки разбегались в стороны, словно расправленные крылья, то феерверки искр складывались в блеск, отраженный пластинами чешуи.
Я так хотел верить, что те времена были другими! Я так возненавидел тогда материализм за его скуку, так жаждал необычного, что начал опасаться, не сойду ли с ума в попытках доказать: раньше миром правили другие силы. Но попытки эти так и оставались лишь попытками.
Когда прошли условленные две недели, профессор Август пригласил меня к себе в дом. Это была небольшая, но удивительная квартира, вся сплошь уставленная старинными предметами. Тут было и оружие, и картины, и причудливые вазы и амфоры. В гостинной худенькая девочка лет десяти упражнялась в игре на изящном белом клависине.
— Уже намного лучше, Бланка! – похвалил ее Клеофас Август. – Познакомься, Бартоломео. Это моя племянница, дочь покойного брата. Я ее опекун.
Пока мы пили чай из крохотных фарфоровых чашечек, Бланка вертелась на стуле и украдкой с любопытством поглядывала в мою сторону. Тогда меня это сердило ни на шутку, ведь я еще не знал, что через десять лет эта прелестная молодая особа согласится составить мое счастье.
— Определился ли ты с темой изыскания, Бартоломео? – спросил меня профессор Август.
Находясь здесь, в его владениях, я считал неприемлемым разговаривать с ним в прежнем моем тоне. Я искренне сожалел о своей дерзости и стыдился узости собственного восприятия. Так переменчива иногда бывает юность!
— Да, профессор, — ответил я. – Я выбрал тему, и теперь она, как Вы и говорили, не дает мне уснуть. Я хотел бы восстановить правдивую историю Большой Войны.
— Правдивую историю? – переспросил Клеофас Август. – Выходит, та история, которую мы знаем, лживая?
— Не совсем так. Она лишь исключает одно обстоятельство…
Тут я замялся. Я не мог подобрать слов, чтобы сказать правильно, не вызвав смеха. Да, смеха! А как иначе должен был авторитетный профессор Свободного Университета Вилле отреагировать на мое предположение?!
— Какое же обстоятельство? – удивительно спокойно поинтересовался Клеофас Август, отламывая небольшой кусочек песочного печенья.
— Это сложно объяснить, — ответил я уклончиво.
— О, объяснить сложно лишь то, чего ты сам толком не понимаешь, — возразил он. – А ты, похоже, понимаешь все прекрасно. Так в чем же дело?
— Моя гипотеза, порою, кажется мне глупой, — пробормотал я, опуская взгляд глубоко в чашку с чаем.
Несколько секунд я ждал ответа так, как подсудимый ожидает собственного приговора. Тем более неожиданным был для меня прежний размеренный тон моего преподавателя:
— Критичность для ученого похвальна, мой друг. И правильная формулировка гипотезы – это отдельная наука, которая постигается лишь с опытом. Давай рассмотрим это вместе.
— Видете ли, профессор, — снова начал я, запинаясь, — в легендах, которые Вы рекомендовали мне к прочтению, всегда присутствуют такие силы, которые с точки зрения современного человека невозможны.
— И это тебя смущает, — констатировал Клеофас Август, продолжая уделять все свое внимание песочному печенью.
— Да, немало, — ответил я.
— Ах, Бартоломео! Вы не верите в волшебство? – спросила меня Бланка с трогательной детской простотой и рассмеялась. – Какой Вы глупый!
Я покраснел, хотя не видел для этого причин. Надо мной смеялась всего-то десятилетняя девчонка!
— Не нужно, Бланка! – остановил ее профессор. – Бартоломео весьма догадливый молодой человек и трезво смотрит на вещи. Как думаешь, Бартоломео, что если темой твоего изыскания станет “Правдивость легенд”, а не “Правдивость истории”? Тут есть большой простор для мысли и тут уместны разные гипотезы.
Я сидел как громом пораженный. Я ожидал любого поворота сегодняшнего разговора, но только не такой. Чашка из тонкого, почти прозрачного фарфора едва не выпала из моей дрогнувшей руки.
— Вы не считаете мои предположения бессмыслицей, простой фантазией?! – пробормотал я, окончательно смешавшись.
Профессор не торопился с ответом. Он отпил еще глоток чая и вернул чашечку на блюдце.
— Я много лет изучал историю, — сказал Клеофас Август, и глаза его медленно проскользили по противоположной стене, вдоль которой стоял большой шкаф, уставленный древностями. – Не обо всем я рассказываю на своих лекциях. Есть вещи, про которые говорить бывает неудобно. Бывает даже… небезопасно. Бланка, дорогая, сходи-ка ты наверх и принеси свои рисунки. Я думаю, Бартоломео любопытно будет взглянуть на них.
В волнительном предчувствии я наклонился вперед и замер. Я сразу понял, что девочка должна была покинуть комнату не случайно. И я не ошибся.
— Да, мой юный друг, — продолжил профессор. – Я много лет изучал историю. И я твердо знаю, что просто так все до одного первоисточники не исчезают. Последние десять лет я писал трактаты о гончарном мастерстве и истории ткачества. Это также по-своему достойная тема, но, наверное, я соглашусь с тобой, что это скучно. Соглашусь потому, что раньше я был сторонником сходных гипотез. Я имею в виду твое изыскание. Ты удивлен?
Профессор Август мог и не задавать последнего вопроса. Я и правда был удивлен и только кивнул, не найдя в тот момент других слов. А он говорил дальше:
— В тебе я увидел того, кто мог бы дать мне свежий взгляд на вещи. Я давно мечтаю о собеседнике на эту тему.
— Но почему я, профессор? Почему не сотни других студентов, почему, наконец, не другие преподаватели? – еще больше недоумевал я. – Ведь они знают несоразмерно больше!
— Все потому, что в нашем научном сообществе есть аксиома: магии нет и быть не может, — объяснил Клеофас Август.
Я был совершенно сбит с толку и спросил:
— Простите, но я не совсем Вас понял. Что Вы имели в виду под этим?
Профессор вздохнул.
— Невозможность существования магии – это не только научный тезис. Это еще и политика, Бартоломео. Есть люди, весьма могущественные, полагаю, которые следят за тем, чтобы ни у кого не возникало даже малейших сомнений в том, что магии нет. Не спрашивай меня о них, поверь на слово. Я был неосторожен в юности и самонадеян в зрелости, за это и пришла ко мне расплата: чтобы и дальше работать в университете и заботиться о Бланке, мне пришлось посвятить себя изучению глиняных горшков. С тобой же, за закрытыми дверями этой гостиной, мы можем обсудить многое без опасений быть услышаными. Не нужно много говорить другим о том, что ты собираешься исследовать. Пусть все предполагают, что ты собираешь материал для опровержения легенды. Кстати, почему именно эта легенда?
Я не успел ответить, потому что в гостинную вернулась Бланка. Она несла кипу разноцветных рисунков. Сперва я хотел вежливо посмотреть несколько из них и высказать какую-нибудь формальную похвалу, которую обычно говорят детям, но вдруг побелел как полотно: на этих рисунках я увидел в точности то, что грезилось мне в огненном пламени: там были и удивительные замки с высокими шпилями, и танцующие дамы и кавалеры в старомодных нарядах, и мчащиеся на конях рыцари. Были там и мрачные картины – старое кладбище, остров с холодной оголенной землей, павший в сражении воин в доспехах, над которым кружили вороны. Ни один из рисунков не отличался выдающимся художественным мастерством, это были цветные незамысловатые картинки, нарисованные рукой ребенка. Но тем больше они поражали мое воображение.
— Вам нравится, Бартоломео? – спросила девочка, явно польщенная моим нераздельным вниманием к своему творчеству.
Меня, однако, в это время терзал совсем другой вопрос.
— Да, — кивнул головой я, не отрывая глаз от рисунков. – Да, да, Бланка! Где ты все это видела?
— Я их помню. Наверное, они мне приснились когда-то давно. Очень, очень давно, – ответила она и настойчиво попросила, — но смотрите все-все картинки, все до конца!
Я перекладывал листы один за другим. Я тоже чувствовал, будто уже видел это все когда-то очень давно. Голова моя кружилась, а руки, наверное, дрожали от волнения, потому что я не удержал в руках стопку рисунков, и они разлетелись по полу, а один даже угодил в потухший камин.
— О, прости, Бланка! – воскликнул я. – Простите, профессор!
Стыдясь своей неловкости, я бросился на колени и стал собирать с пола картинки. Бланка тут же пришла мне на помощь. Я казался себе неуклюжим и глупым, ползая рядом с ней на коленях, и готов был провалиться сквозь землю. Но в это время девочка окликнула меня, а потом принялась все сильнее дергать за руку:
— Посмотрите! Посмотрите быстрее в камин! Ах, ну быстрее же, Бартоломео!
Я обернулся и, забыв обо всем на свете, уселся прямо на полу: зола, по-видимому, была еще теплой, потому что бумага в ней начала тлеть по краям, а затем вспыхнула и перевернулась, и я увидел в языках пламени змеиную голову на гибкой шее, сверкающую чешую и два огромных крыла.
Целых полгода я провел в трудах под руководством профессора Августа, и небольшое скромное изыскание было готово. Казалось бы, настала пора обо всем забыть и вернуться к прежней жизни. Но “Легенда о последнем драконе” захватила меня безвозвратно и стала истинно смыслом моей жизни. Я, подобно усердному кроту, начал рыться в архивах студенческой библиотеки, потом в государственном и королевском архивах, но это не давало полной картины. В моих руках были только одни зацепки, крошечные косвенные свидетельства, но они не могли ничего доказать.
Я постепенно забросил и своих друзей, и их веселые пиршества и сделался почти отшельником, живущим в читальных залах. Все чаще вечерами я раздумывал о том, как переменится этот мир, если узнает, что магия действительно существовала. Я даже погружался в смелые мечты о том, что неким образом и сам овладею утерянным знанием, хотя и совершенно не понимал, что с этим делать. А по ночам в языках огненного пламени мне неизменно являлся дракон.
Я стал частым гостем в доме профессора Августа. Проводя много времени в разговорах, мы сблизились еще больше. Несколько раз я слышал бойкую игру на клависине и топот детских ног по лестнице, но после вся квартира надолго погрузилась в тишину.
— Я определил Бланку в школу для благородных девиц, — со вздохом рассказал мне профессор. – Она должна получить хорошее образование и обучиться манерам. И все же я по ней скучаю.
Бланка присылала письма, а часто и свои рисунки. Все они бережно хранились у Клеофаса Августа в шкафу, и он неизменно показывал мне их раз в месяц за чаем. Один из них поразил меня особенно. Он сильно отличался от сказочных сюжетов. На нем маленькая девочка лежала на животе у самого озера и смотрела в воду, где на глубине блестели прекраснейшие разноцветные кристаллы. Лицо ее улыбалось, глаза сияли ярче драгоценных камней, увиденных на дне. Но позади нее плясала серая нечеткая тень наподобие человека, которая держала в одной руке заплатанный старый мешок, а другой насыпала в него тонкой струей темный крупный песок. За тенью все было блекло и бесцветно, и будто бы там стояли еще и другие тени, такие же серые и нечеткие.
— Это ее первое воспоминание, — сказал профессор Август. – Я думаю, это о гибели родителей. Бедный ребенок, она так рано потеряла отца и мать!
Позже я увидел еще один рисунок с серыми тенями. На этот раз они пытались окружить дракона, но он разгонял их в разные стороны языками пламени, и они горели. Больше ни с кем и никогда не сражался дракон на рисунках Бланки.
— Чудесные картинки, — одобрительно кивал профессор Август. – Какие правдивые и точные!
Я его не понимал. Тогда еще я не знал хорошо Бланку. Она казалась мне немного странной девочкой, которая была то веселой и разговорчивой, то вдруг тихой и задумчивой. Профессор Август рассказывал, что дома у нее не было подруг, и он был этим обеспокоен.
— Я скверный воспитатель, — говорил он. – Рядом со мной она и дальше будет жить несуществующими мирами и фантазиями. Но девочки ее возраста должны разговаривать о другом. Я не хотел бы вырастить ее чудачкой, чтобы это обрекло ее на одиночество. Я уже в годах, а других родственников у Бланки нет.
Мне было этого не понять. Я рос в большой семье с троими братьями и десятком кузин и кузенов и не знал, что такое одиночество. Признаться, поначалу я тоже немного скучал по Бланке с ее живостью и детской непосредственностью, но вскоре даже и думать позабыл о ее существовании. Я весь погрузился в книги.
Клеофас Август научил меня работать с первоисточниками, ставить и проверять свои гипотезы, быть критичным и постоянно мыслить. Он всецело поддерживал мой так внезапно проснувшийся интерес к науке, но едва ли не каждый день предупреждал о том, что раньше времени не стоит делать громких заявлений. Мне все больше казалось, что он о чем-то знает, но скрывает это, однако спросить его прямо я не решался.
Тем временем моя собственная жизнь становилась все более странной, наполненной таинственными намеками и совпадениями. Как говорится в романах, я потерял покой и сон. Однажды я решил поделиться этим с профессором.
— С тех пор, как я взял в руки эту легенду, со мной начало происходить что-то странное, — начал я.
— Что же? – поинтересовался мой преподаватель.
Я сделал вдох поглубже и принялся объяснять:
— Мне все время кажется, что я на самом пороге открытия. Мне кажется, что следующая моя находка все расставит по своим местам. Что осталось сделать совсем немного
— О, Бартоломео, — успокоил меня Клеофас Август, — ученому так кажется всегда, но чаще всего на поиски ответа уходит целая жизнь. А порой и ее не хватает.
— Я знаю, что не найду покоя, пока не раскрою всех тайн! – возразил я.
— Ты молод, но уже все знаешь. А я стар, и по-прежнему невежда и в истории, и в искусстве проживания жизни, — заметил профессор Август. – Такой вот непреложный закон бытия.
Я вынужден был с этим ненадолго согласиться:
— Возможно, это так. И все же одна неотступная мысль преследует меня день и ночь. Поймете ли Вы меня, профессор? Дракон! Я вижу его везде: в свете свечи, в камине, в отблеске молнии, когда проходит гроза, даже на звездном небе.
— Мой юный друг, у тебя развитое воображение, — покачал головой Клеофас Август.
Мне показалось, что он не придал моим словам должного значения, и это меня задело. Я продолжил еще более решительно:
— Нет, это больше похоже на одержимость, болезнь.
На этот раз профессор Август взглянул на меня уже без усмешки. Некоторое время он изучал мое лицо, не говоря ни слова. Я тоже молчал под его странным взглядом, полном неизвестных мне глубоких размышлений. Наконец он медленно проговорил:
— Ты можешь быть прав. Наверное, это переутомление. Не стоит ли тебе некоторое время отдохнуть? Я могу пригласить знакомого врача, он выпишет тебе отличную настойку для нервного успокоения.
О, он вовсе не об этом думал! Я это знал и не дал себя обмануть. Я заявил:
— Нет, мне не нужен врач. Потому что все это только похоже на одержимость, но ею не является. На самом деле это голос прошлого, если вам угодно такое определение. Я думал над этим: четыре магических стихии – земля, вода, воздух, огонь. Почему я не вижу дракона, скажем, в стакане воды или на этой стене? Почему я не вижу его, скрывающимся в ветвях деревьев в парке или в контурах причудливо сложившихся облаков? Ведь если бы состояние мое было болезнью, я видел бы дракона абсолютно везде! Но я вижу его только в порождениях огня! Дракон – стихия огня. Следовательно, увиденное мной – это проявление магии, то есть рационально необъяснимого. И я предполагаю, что происходит это не случайно. Это знак, профессор! Знак, что нельзя останавливаться. Нельзя терять время зря. Я должен открыть миру историю последнего дракона, историю забвения магии.
Профессор Август продолжал спокойно сидеть в кресле и не производил вид человека, впечатленного моей речью.
— Тысячи людей считают, что “дракон” был иносказанием или обычным прозвищем человека, не более того, — сказал он в ответ. — Десяток археологов из всех известных мне университетов не откопали ни единой находки, которая свидетельствовала бы о том, что на земле когда-то жил хоть один дракон. Не сохранилось ни одного точного описания того, как он выглядел, ни одной картины, созданной его современниками. Что же дало тебе такую непоколебимую веру в его существование?
Этот вопрос застал меня врасплох: я действительно этого не знал.
— Ты много времени провел над книгами, Бартоломео, ты нуждаешься в отдыхе. В смене впечатлений, — констатировал Клеофас Август. — Не съездить ли тебе домой? Ты навестишь отца и мать, побудешь в кругу своей семьи. Это дает человеку силы. А я дам тебе вот эту безделицу. Я привез ее когда-то с востока. Там эту игрушку называют ловец снов и вплетают в нее перья совы. Люди, живущие на востоке верят, что нет надежнее спасенья от огненной стихии, чем крохотное совиное перышко. Забавно, не правда ли? Мне будет любопытно услышать от тебя по приезде, была ли в их словах доля истины.
Я последовал его совету и вскоре отправился домой. Мои родные действительно были от всего сердца обрадованы этому неожиданному визиту. Матушка сетовала, что я стал худ и бледен, младшие братья по-доброму подшучивали надо мной, а отец впервые смотрел мне в глаза с неведомой доселе гордостью. Последовали многочисленные расспросы, торжественные обеды, на которых у нас побывали все ближайшие родственники и друзья фамилии, пересказывание новостей за минувшие полтора года.
Я же при первой возможности попросил отца похлопотать о моем допуске в городской архив. Я всеми фибрами души надеялся, что здесь смогу отыскать хоть что-то и о других действующих лицах легенды, на которых так деликатно обратил мое внимание профессор Август. Например о той, кому принадлежало совиное перо…
Время моего студенчества пролетело на удивление быстро, как это всегда бывает с лучшими годами человеческой жизни. Я объездил много городов нашего королевства, побывал в самых разных местах, посетил все доступные библиотеки и архивы. Меня по-прежнему вела вперед неведомая магическая сила, и всюду я встречал подсказки, оставленные огненным драконом. И тем ни менее мечты мои постепенно стали более приземленными, нежели на самой заре юности. Теперь я уже не воображал себя великим первооткрывателем, не торопился в погоне за истиной. Я шел к ней более планомерно и продуманно, и все же был еще неопытен и грешил максимализмом.
Когда пришла пора защиты моей магистрской работы, посвященной все той же теме, что и мое первое скромное научное изыскание, я не просто верил, но был твердо убежден в правдивости и точности “Легенды о последнем драконе” и мог достаточно весомо аргументировать свое мнение и подкрепить его цитатами из авторитетных источников. Однако профессор Август был насторожен больше, чем когда-либо:
— Я же просил тебя, Бартоломео, оставить в стороне вопрос магии. Я вижу недостаток доказательной базы. Ты рано затрагиваешь эту тему.
— Но профессор Август! – возразил я. — Если я упомяну об этом в присутствии всех профессоров и студентов университета, то многие заинтересуются этой темой. Многие начнут похожие изыскания, возможно, и в других университетах, и уже через несколько лет мы сможем разгадать величайшую тайну прошлого!
— Бартоломео, прошу, услышь меня, — попросил мой преподаватель более настойчиво. — У тебя недостаточно доказательств. Заговоришь об этом слишком рано – и дискредетируешь себя в научном сообществе. А это грозит потерей репутации надолго. Я не могу этого допустить. Я говорил тебе, что распространение информации на эту тему опасно. Есть люди, которые… не допустят того, чтобы правда стала известна широким кругам.
Мне казалось, что я был храбр как лев, а оттого мог победить в одиночку целую армию. На самом же деле я был самонадеянным глупцом, решившим сгоряча бросить вызов несопоставимо более сильному врагу. Я полагал, что своим упорством добьюсь любой благой цели и ответил ему:
— Профессор Август, я готов к любым последствиям. Я никого не боюсь, и даже Вы меня не остановите!
Больше Клеофас Август спорить со мной в тот день не стал, а на следующий мы решили, что я оставлю ему трактат на рецензию и уеду на месяц домой. Однако даже пребывание в родном городе не приносило мне первое время покоя. Я мог часами бродить по улицам, сидеть на скамейке в сквере или парке, раздумывая о том, что ожидает меня совсем скоро, в сентябре. Я стал не так общителен, как прежде, и даже, по словам братьев, чересчур меланхоличен. Матушка тоже была обеспокоена моей грустью и еще больше моим одиночеством.
Я снова несколько раз посетил городской архив, но больше не нашел там ничего примечательного. Зато весьма прелестная достопримечательность стала время от времени появляться в нашем доме. Звали ее Селестина. Это была дочь одного из близких друзей моего отца, также работавшего в городском суде. Она была мне ровесницей, и я знал ее еще с детских лет, но за время моего отсутствия она расцвела и удивительно похорошела.
В юности я был пылким молодым человеком и не мог ей не залюбоваться, а она, вероятно, отвечала мне полной взаимностью, потому что день ото дня я получал от ее матери приглашение то к обеду, то к вечернему чаепитию. Моя влюбленность отвлекла меня от тяжелых мыслей, и я снова начал всецело наслаждаться жизнью. Были минуты, когда и университет, и мой трактат казались мне делом весьма второстепенным.
Родители Селестины относились к моим ухаживаниям за их дочерью благосклонно. Матушка моя также была обрадована таким обстоятельствам, а братья, хоть и подтрунивали надо мной по привычке, очень лестно отзывались о моей избраннице. Все складывалось как нельзя лучше. Даже отец, вызвав меня однажды на разговор, заранее благословил мое ей предложение руки и сердца. В самом конце августа я, окрыленный возвышенными чувствами, принял решение возвратиться в университет и защитить свой трактат, после чего вернуться с лаврами славы и обьясниться с Селестиной.
Однако ни каникулы, ни романтические чувства не убавили моей решимости во что бы то ни стало открыть миру правду о том, что магия существует или по крайней мере существовала триста лет назад.
— Что бы Вы ни говорили, профессор, я больше не стану молчать! – категорично заявил я Клеофасу Августу в день перед защитой. — Подумайте только, какое это открывает будущее!
— О, молодость! – посетовал тот, серьезно хмуря брови и поправляя очки на переносице. – Ну что ж, пусть будет так. Твое время назначено на завтра на три часа. Раньше приходить не стоит, ты должен быть свеж и собран, чтобы изъясняться четко и логично.
В назначенное время я переступил порог зала диспутов. Я был взволнован, и щеки мои пылали румянцем, а на лбу выступал пот. Я даже не сразу разглядел, что творилось в середине зала, где происходил очередной доклад. Мне пришлось протиснуться вперед через шепчущуюся толпу. И несложно было представить себе мое изумление, когда за кафедрой я увидел профессора Клеофаса Августа, который заканчивал читать вслух мой трактат…
Я удивляюсь, как в тот момент не разорвалось мое сердце! Человек, которому я всецело доверял, которого считал своим вторым отцом и наставником, присвоил себе мои многолетние труды и открытия! Он сделал это хладнокровно и рассчетливо за моей спиной! Бесчестный‼!
Я решил броситься к нему, как только он замолчит, и обвинить во всем, что он сделал, перед лицом целого университета. Тут сложно было бы солгать. И если бы в нем оставалась хоть капля чести, он объяснил бы мне, зачем совершил весь этот чудовищный обман. Но толпа вокруг кафедры кипела и волновалась. Со всех сторон поднялись громкие выкрики, десятки людей проталкивались вперед. Меня оттеснили в сторону, а голос мой, кричавший о том, как ужасен был поступок профессора, заглушили другие возмущенные голоса.
В отчаянии я покинул и зал, и университет. Мне стало невыносимо больно и обидно за себя, и я предпочел в тот день одиночество. Я скитался по узким улочкам и бросал камни с моста в городской канал. И все это время размышлял только о том, как представлю Клеофаса Августа к ответу за его преступление. Потом, сидя на скамейке, уже устало и бездумно наблюдал, как фонарщик совершал свой вечерний обход вдоль улицы.
Поздно вечером я вернулся домой. Спать не хотелось, и я отправился в кабинет. Мое внимание тут же привлек лежавший на столе пакет, завернутый в несколько слоев плотной бумаги и перевязанный тесьмой. На нем не было никаких надписей. Я поспешно разрезал тесьму канцелярским ножом и разорвал бумагу. Под ней был мой трактат, но не изначальный его вариант, а скорректированный. Беглый просмотр тут же убедил меня в том, что из него были удалены все упоминания о волшебстве. Я гневно отшвырнул его в сторону, уже подумывая о том, чтобы сжечь в камине, как тут заметил еще и конверт. В нем было письмо следующего содержания:
“Дорогой Бартоломео! Прошу тебя дочитать эти строки до конца. Сейчас ты, вероятно, считаешь меня своим врагом. Это не так. И уже завтра, когда ты перешагнешь порог университета, ты в этом убедишься.
Я уже предупреждал тебя, что вопрос магии волнует очень могущественных людей. Я знаю об этом не по слухам. Когда-то, когда я был чуть старше тебя, я сделал ошибку, которую ты, Бартоломео, не должен повторить. Я собрал многие доказательства существования магии и рассказал об этом перед большой аудиторией. В ту же ночь в моей квартире был учинен обыск, и все находки исчезли. На следующий день мою работу признали антинаучной, а меня едва не выгнали из университета. Я долго оставался на задворках ученого сообщества и каждый день видел, что за мной внимательно следят. Когда мой брат попытался мне помочь в поисках новых доказательств, то погиб вместе со своей женой при странных, очень подозрительных обстоятельствах. Так Бланка осталась сиротой, и в этом моя вина.
Я не знаю, какая судьба мне теперь уготована, но надеюсь, что ты получишь урок осторожности, Бартоломео. В чем я уверен, так это в том, что ты можешь дать этому миру многое. Я прошу тебя, никому не говори о своей причастности к трактату сверх того, что содержится в откорректированных мной рукописях. Так ты получишь свое заслуженное признание и избежишь последствий.
Я желаю тебе всего самого наилучшего, дорогой Бартоломео. Не храни это письмо.
Профессор Клеофас Август”
На следующий день весь университет потрясла новость о том, что профессор Август был признан невменяемым и помещен в закрытую лечебницу для душевнобольных. Мне высказали сочувствие и еще раз подвергли изучению мой отредактированный трактат. Поскольку там не содержалось ни единого намека на магию, он был оценен как хорошее достижение науки. Я стал магистром, и мне предложили место лектора. Теперь я был самостоятельным человеком, зарабатывающим себе на жизнь собственным трудом.
Я должен был вернуться в родной город и сделать предложение Селестине. Нужно было забыть о магии, о профессоре, обо всем, что произошло со мной за последние недели. Это было бы разумно, иначе я рисковал свободой, будущим. Но на душе у меня было очень тяжело, потому что я понимал, что Клеофас Август пострадал от моей горячности и самоуверенности. Этими терзаниями был наполнен мой ум, когда я покинул Вилле, сидя в своем экипаже. За городской чертой начинались живописные картины. Они напомнили мне о том, каким окрыленным и полным надежд я когда-то впервые ехал сюда. Теперь же я чувствовал себя трусом с запятнанными кровью руками.
В нескольких часах езды от города, в поле, у нас сломалось колесо. Кучер принялся возиться с ним, проклиная последнюю жару уходящего бабьего лета. На небе собирались тучи.
— Успеешь ли до додждя? – спросил его я, озабоченно разглядывая горизонт.
— Буду стараться, господин Юстас, — ответил он.
— Ну, поспеши, — поторопил я его и снова сел в экипаж.
Рядом стоял высокий раскидистый дуб. Такие великаны, пережившие своих однолеток, еще встречались в те времена посреди чистого поля. Я смотрел на него и любовался: какая сила! Почему я не могу быть таким сильным, как он?
Прошло четверть часа. Вдалеке прогремел гром.
“Чем может напугать осенняя гроза? – подумалось мне. – Последний вздох стихии, пережиток лета”.
Непогода приближалась быстро. Ветер зашумел в листьях дуба.
— Готово! – прокричал кучер. – Сейчас поедем!
Но гроза ударила первой. Она налетела вместе с порывом ветра и загремела с неожиданной силой прямо над нашими головами. Экипаж рывком тронулся с места и покатился по дороге, увлажненной первыми каплями дождя. Я откинулся на сидении и равнодушно смотрел в окно, мысленно закрывая для себя двери в собственное прошлое.
Гроза нарастала. Лошади замедлили ход, борясь со встречным ураганным ветром. Полевая трава клонилась и припадала к земле. Вдруг все залило синим электрическим светом и оглушительно загрохотало вокруг. Обернувшись, я увидел позади, что дуб раскололся напополам. Он был весь объят пламенем. Ветви его шевелились в языках огня, и я готов был поклясться, что весь этот горящий гигант на минуту превратился в огненного дракона.
В тот момент я понял, что судьбу не обмануть, и никакими доводами рассудка не унять стихию.
— Стой! – крикнул я кучеру. – Поворачивай! Мы не едем домой.
А про себя добавил: “Мы едем искать новые доказательства и новых сторонников, чтобы все вместе мы смогли рассказать миру правдивую легенду о последнем драконе”.