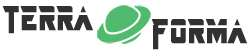——-
В 1910 году под Рождество мне нравилось рассматривать себя как водопроводчика, и, соответственно, я был под большим впечатлением и влиянием разного рода медных крантиков, запорных и отпорных клапанов и заслонок Готвальда. И, как часто бывает в жизни, стоит тебе по-настоящему чем-то увлечься, возможности проявить себя на новом поприще появляются сами по себе. Так было и раньше, когда я работал, например, палачом во время Французской революции или дровосеком в сказках братьев Гримм. Одним словом, прямо под Рождество я получил приглашение в Московскую Думу починить батарею – не бог весть что, конечно, но в этом легендарном и таинственном здании я никогда не бывал и подозреваю, что провидение именно поэтому заинтересовало меня в весьма хитром водопроводном деле. Всякий бывалый водопроводчик знает, что без обратного вентерного штуцера к испорченной батарее лучше и не подходить. Впрочем, оставим техническую часть и перейдем к делу.
― Дядя, ты кто – лесоруб из сказки «Лесная избушка» братьев Гримм? — поинтересовался первый из вооруженных до зубов охранников, когда я предстал перед ними на следующее утро со своими таинственными для всех непосвященных водопроводными штуковинами в проходной Думы, одетый в медвежью шубу, в огромной шапке-ушанке, крагах и с небольшим флагом немецкого города Вупперталь. Не успел я ответить, как второй верзила добавил:
― … или палач молодой французской республики?
― Вот черти… — пронеслось у меня в голове – хорошо их готовят…
Как можно более вяло и туманно я объяснил строение и назначение обратного вентерного штуцера, а заодно и заслонок Готвальда. При этом я порывался начертить схему их соединения на груди одного из них.
― Пьян с утра! – облегченно, с пониманием и оттенком зависти поставили диагноз ОМОНовцы, и с этим диагнозом я опустился на минус 18-й этаж.
Когда я вышел из кабинки лифта, то в миллиметре от моего носа пролетела стрела и вонзилась в нос одной из египетских мумий, из которой раздалось недовольное урчание. Сообразив по оперению стрелы, что это был индеец племени сиу, я издал соответствующий случаю победно-обрадованный клич и исполнил песню прославления древнего вождя сиу Ханпы Уанжилы.
― Хай! – ответила глухая стена и расступилась, пропуская меня в заповедные недра Московской Думы, хотя я и так мог бы пройти сквозь стену!
Побродив в поисках нужной мне комнаты среди старинной мебели, скелетов мамонтов и неплохих манекенов (или чучел) согбенных крестьян Китайской эпохи Ци, я наконец увидел нацарапанную ногтем табличку – «Вам сюда». Сверив инструкции по письменному приглашению за подписью давно почившего генерал-губернатора Москвы князя Владимира Андреевича Долгорукова, я, не постучавшись, вошел. В комнате было темно, но профессиональный взгляд сразу определил текущую и пахнущую едким карбидом батарею. Доступ к ней, однако, был невозможен, так как она располагалась прямо за трибуной, где сидели, как я определил, все главноначальствующие и генерал-губернаторы Москвы с XVIII века во главе со святым Отцом, боярином Тихоном Никитичем Стрешневым, которого было трудно узнать. А вот Арсения Андреевича Закревского, о котором упоминала Рождественская рукопись одного римского алхимика, слишком секретная, чтобы здесь о ней распространяться; я бы узнал даже, если бы его лицо было в маске, а сам бы он сидел в бочке.
― А вот князь Щербатов постарел и сдал с нашей последней встречи… — грустно и меланхолично отметил я про себя, и, как часто со мною бывает, унёсся в мыслях далеко от происходящего.
― Барон, что Вы всё крутите в руках заслонку Готвальда? – прервал мои отвлеченные мысли о тщете жизни властный голос графа Сергея Григорьевича Строганова, который был известен всей Москве своими разнообразными познаниями в самых неожиданных областях.
― Граф, я здесь в некотором роде по службе, и Вы, как никто, должны понимать мое щекотливое положение… – туманно ответил я, применив самый простой способ не отвечать на неприятный вопрос, тем более, что я на самом деле старался разобраться в поломке штопорной затонной втулки хомутного распределителя-аэратора насоса, подававшего горячую воду к злополучной батарее.
― Понимаю! – ответствовал граф и оглядел многозначительным взглядом ряды собравшихся генерал-губернаторов.
Последние перешли на язык взглядов, которым я тоже неплохо владел, но редко когда показывал своё знание этого древнего способа общения. В самом деле, по моему опыту, нет смысла явно выражать своё понимание происходящего до разрешения ситуации… А пока в моём присутствии разгорелся немой спор с несколькими доминирующими мнениями, касающихся моей готовности или неготовности, пригодности или отсутствия таковой для выполнения «одного вам всем известного дельца»… Я понял, что речь не шла о батарее… Победило мнение последнего генерал-губернатора, генерала от инфантерии Сергея Константиновича Гершельмана, что «как кажется, Барон — вполне разумный человек, да и имеет бесподобный стиль при общении с духами».
Меня любезно пригласили занять место между губернаторами Москвы, которые, на этот раз на языке слов, обсуждали вопрос о повальном сносе старых домов в Москве и замене их на Торговые ряды, лавки и почему-то пожарные станции и медовые лотки. Дело в том, что москвичи, которые все ещё жили в том же здании, в том же смысле, как жили и сами генерал-губернаторы в Думе, были недовольны сносом их домов, и эти жалобы в те времена воспринимались действительно очень серьезно. Генерал-фельдмаршал граф Иван Васильевич Гудович предлагал разобраться «с ними» по-военному, то есть «выкатить орудия и ПЛИ!», а умный, гуманный и тонкий политик граф Ростопчин был сторонником переговоров – «зазвать за стол переговоров и перетравить, как макак» …забывая, что с призраками, пусть и составлявшими в своё время элиту Москвы, никто за стол переговоров не сядет.
― А что если направить Барона через погребок Наполеона?… — несколько туманно высказался князь Дмитрий Владимирович Голицын, после чего все вечные «сторожа» Москвы (есть поверье, что «один раз губернатор Москвы – навечно губернатор») уважительно склонили свои седые головы.
Приглашение простого водопроводчика сесть за один стол с генералами было делом немыслимым и в то время, не говоря уж о всех последующих… Не знаю, было ли это хитрым маневром видавших виды московских губернаторов или случайностью, но ведь всем москвичам известно еще одно поверье, что «если сядешь меж ними, то сам таким и обернёшься»…Так и случилось со мною.
Починив батарею, я в поисках лифта на этот раз порыскал среди коллекций коньяков и вин Императора Наполеона, оставленных им в Москве «на случай возвращения» и потом потерянных в недрах Московской Думы, прошел через коридоры с фолиантами (где я без труда узнал Рождественскую рукопись одного римского алхимика) и останками известных людей, среди которых выделялся череп Апостола Луки и мощи Святого Николая, и оказался перед дверью, на которой стояла только одна буква «Л». Внутри был обычный лифт, только вместо цифрового обозначения этажей, были старые с вензелями и ятями медные таблички с незнакомыми фамилиями. На одной из них красовалось моё имя, так что я и нажал именно на неё…
― Василь Василич, ну где же Вы были ?– и тише одними губами только для меня – Ты, милый премилый мой, я так скучала… — прошелестела секретарша, сверкая разными выдающимися блестящими частями тела, едва прикрытыми Рождественскими красно-зелёными полосками прозрачной материи.
Я давно перестал обращать внимания на то, как меня называют. Например, учитель по Начальной Военной Подготовке в школе звал меня «Володей», в «Лесной избушке» меня знавали за «дровосека», а в миру, насколько я помню, моё имя было Семен.
Я не стал рассказывать ей про то, что для починки батареи мне пришлось прибегнуть к прокачке заштафельного остатка фрактуры через вентильную водоразетку Фишера… Подумав, я использовал выход номер два при вопросах неясной этимологии:
― Дорогуша, чайку бы и диванчик нам …
По реакции секретарши я понял, что выход номер два сработал:
― Вы сами знаете, я, что называется, всегда готова, но Вас приглашают к Самому! – все же неправильно поняла меня Рождественская пышка.
― Проводите хотя бы? – вложил я всю возможную глумливость в эту нехитрую фразу, и это мне удалось.
Сам сидел, угрюмо уставившись в карту развития Москвы, где вместо старых зданий почти все пространство было заполнено пожарными станциями, торговыми рядами да медовыми палатками. Работа Самыча, как я понял, состояла в сравнении цифр, красовавшихся на карте и на многочисленных бумажках, лежавших на его столе. Происхождение бумажек установить было нетрудно – вся приёмная и ведущие к ней коридоры были наполнены сомнительными личностями с такого рода бумажками в грубых руках.
― Сам Самыч – как можно более неразборчиво пробурчал я – не жалеете Вы себя – и добавил:
― У меня коньяк, Наполеоновской выдержки. Подрядчики да купчишки, знаете ли – и я сделал загадочный и красивый жест приглашения-сострадания, который Сам принял за холуйство.
Не знал я тогда, что и это старое Московское поверье (хороши, черти, эти Московские генерал-губернаторы!) – «кто в любой форме к Наполеоновскому походу прикоснется, уж от Москвы более не сможет окститься, да и печься будет о ней ажно как о матери о своей!» …
Сам долго изучал бутылку, и, ещё наливая, грозил мне заплывшим пальчиком… После первой же рюмки он с отвращением отбросил все карты со стола, его взгляд стал осмысленным и, сорвав трубку телефона, он резко отчеканил:
― Селекторное совещание. Быстро. Президент. Уволю всех. 5 минут.
Бутылки хватило на всех одинаковых, как туалеты, чиновников. Приятно было мне смотреть, как люди снова становились людьми, а Москва – Москвою…
― Ну что дровосек, много бабла срубил? – ехидно спросил первый ОМОНовец.
― Это что у тебя – бутылка… Да ты, значит, подтачиваешь юриспруденцию тута, а ну, воротай ее нам взад! – отобрал у меня остатки коньяка второй ОМОНовец.
Когда я выходил из Думы на свежий и ясный Рождественский московский мороз, тени московских отцов-губернаторов махали мне вслед с заснеженной крыши и из всех окон огромного здания, а из проходной доносились покаянные плачи ОМОНовцев.
Из-под ушанки я с удовольствием обозревал родную Москву. Всё было как всегда и как оно и дòлжно быть – городовые стояли посередине улиц и следили за порядком, извозчики развозили москвичей, дворники чистили от снега дворы, гувернантки с закутанными детьми возвращались домой со скверов на горячий чай с кренделями и замечательным Рождественским мёдом.
До закрытия библиотеки оставалось еще пару часов, а посему я доехал на извозчике до Староваганьковского переулка, благо, это было недалеко, и через охраняемые ворота попал в Румянцевский зал, где я уже давно работал над Рождественской рукописью Гермеса Трисмегистуса, готовясь к выпускному экзамену по такому заковыристому водопроводному делу. Именно тогда я и нашёл один престранный документ, чем-то поразивший меня до глубины души. Приведу только первые его строчки:
______________
В 220 году я, называвший себя в то время Гермесом, готовился к экзамену, который мог бы меня сделать аж погонщиком мулов! Готовиться было трудно, и к тому же полагалось также сдать курсовую работу. Я уже открыл к тому времени философский камень, а также научился делать золото из мусора, проходить через стены и общаться с духами, что и подсказало мне тему про мои рождественские приключения в разные столетия и тысячелетия. Недолго думая я назвал её «Рождественская рукопись»…