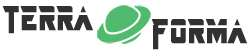С чьей–то лёгкой руки она прослыла ведьмой, да не просто обыкновенной ведьмой, на службе у которой травы, заговоры и тёмные свечи. Нет! Если бы это было так, она бы и не парилась особо. Подумаешь, сделал пару заговорчиков в день, сунул денежку в карман – и никаких тебе забот.
В её случае дело обстояло значительно сложнее. Она писала стихи. Светлые , наполненные надеждой и любовью ко всему сущему, она писать не умела. Ну, не давалось ей это – хоть умри! Не притягивало. Не писалось. Не приносило кайфа от творчества и не вызывало вдохновения. А вот страдание, разрывающие сердце скрытые слёзы – были её стихией!
– Гады, какие же вы гады! – билась она тогда в руках троих своих одноклассников, которые затащили её в кусты на пустыре за домами и грубо воспользовались её беспомощностью перед их напором.
– Пикнешь хоть слово, будешь ходить сюда каждый день, как на урок! – сплюнул тогда сквозь зубы их главный, криминального вида паренёк, который слыл у них на районе за главного.
А ведь она влюбилась в него тогда, тем летом., Яркое, цыганского вида, лицо с выпуклыми скулами, чёрные острые глаза, пружинистая настороженная походка, как у дикого лесного зверя. Много ли девчонке–подростку надо, чтобы влюбиться и безголово принять предложение прогуляться на пустырь за домами?
Домой идти не хотелось. Она забилась в угол на дальней детской площадке, забравшись с ногами на неудобную лавочку, и проплакала там до темноты.
«Что же теперь будет?» – перед глазами стояло его лицо, красивое, циничное, ненавистное и любимое одновременно.
Всё внутри ныло. Она ненавидела своё, ставшее чужим, тело и лихорадочно думала, как скрыть дома всё, что с ней тогда случилось.
А ничего особенного предпринимать не пришлось. Она тихонько юркнула в ванную комнату, когда вернулась домой, смыла с себя всю мерзость, нырнула под одеяло и зажгла фонарик. Так она всегда делала, когда не хотелось, чтобы сестра или родители обнаружили её читающей или пишущей стихи под одеялом.
Тогда ей хотелось выместить всю боль, всё разочарование, в рифмованных строчках. Она ведь и раньше так делала. Напишешь что-нибудь «на разрыв аорты» – и становится легче…
Но на этот раз всё было иначе. Слова сами собой складывались в какие–то проклятья. Она и не знала большинства этих слов. Строки лились сами собой, заполняя страницу «секретного» блокнота. И, удивительным образом. дышать действительно становилось легче. И то, что с ней произошло, казалось далёким и даже не настоящим.
Она наконец–то расплакалась, перечитала написанное и тут же уснула, погасив фонарик.
Через неделю мать того самого подростка кричала так, что было слышно во всех домах, окружающих большой квадратный двор:
– Забрали–и–и! Забрали моего сыночку! Дело ему шьют, менты поганые! Да он и мухи–то не обидит! Ой, люди добрые, что же это такое? Не убийца он, не убийца!
Ещё через день забрали в милицию и двоих его друзей, тех самых, что тогда держали её в кустах на пустыре. Суд был долгим. Выяснилось, что эти её соседи успели натворить много. Человека убили. Грабили. Насиловали. Говорили, что полиции удалось выйти на их след каким–то чудесным образом.
На суде она забралась на самый дальний ряд и сидела, не дыша, пока шло слушание дела, пока оглашали приговор. Она нигде не фигурировала. Но было такое чувство, что к приговору была причастна. Чувствовала, и всё тут.
– Иди ешь скорее – и в школу! – мать командным голосом отдавала последние распоряжения, прежде, чем выскочить из дома на автобусную остановку.
Она мать не любила. Не то, чтобы совсем не любила, но часто чувствовала усталость от её авторитарности, от её, не терпящего возражений, голоса.
А вот есть–то как раз и не хотелось. Она лениво ковыряла в тарелке.
– Ну, что я сказала? Не слышишь, что ли?
Мать с её «психами» уже достала! Рука ныряет в портфель и торопливо пишет в блокнот четверостишие с проклятием.
Мать, которую очень редко она называла мамой или мамочкой, медленно сползала по стенке в обморочном состоянии. Как в замедленном кино, мать, наконец, коснулась пола, вытянулась на нём безвольным грузным мешком и лежала, раскинув руки и почти не дыша.
– Иди, там твоя мамочка сдыхает! – бросила она старшей сестре и выскочила на улицу.
Мать было немного жаль. Да и не случится с ней ничего особенного – полежит на полу, придёт в себя. Она уже научилась дозировать силу своих строчек с магическими формулами. Как – не понятно. Но проклятья могли быть очень жёсткими, помягче и почти совсем безобидными. Всё зависело от её чувства, вызывающего непреодолимое желание написать катрен или два.
Это были не стихи, а какая–то ворожба. Ничего от литературы там не было. Иногда в голове возникали какие–то слова, которых она не знала, со смыслами, о которых можно было только догадываться.
Ведьмой она себя не ощущала. Обычная девчонка. Не бесталанная, чего уж там. Дар был, и не воспользоваться им было бы глупо. Вот она и пользовалась. За умеренную плату.
Подружки, а потом и другие незнакомые ей люди, по «сарафанному радио» находившие её, стали наведываться всё чаще. Она уже давно жила самостоятельно, отдельно от семьи.
В небольшой квартирке, снятой по случаю в центре города, было две комнаты: одну она приспособила под спальню, а другая служила кабинетом. Желающие мщения заранее договаривались о встрече, приезжали, звонили в дверь, робко заходили, присаживались на стул перед «ведьмой» и начинали рассказывать свою историю. Она внимательно слушала, не перебивая. Отмечала для себя малейшие штрихи, которые помогли бы вызвать заклинание: поворот головы, выражение глаз обиженного, горькое слово. Выхватив заклинание из эзотерической атмосферы, ей одной ведомой, она торопливо записывала свой «адский» катрен, совала в руку пришедшего, брала деньги и торопливо выпроваживала посетителя.
– Мамочка, ну, как ты? – она иногда звонила матери, пытаясь услышать в материнском голосе нотки нежности.
Но мать разговаривала с ней сухо и отстранённо. Когда–то, несколько лет назад, спонтанно написался катрен, разрушивший семейную жизнь родителей. Они разошлись мгновенно, уведомив дочерей об этом факте в нескольких словах. В свою настоящую жизнь с новым мужем мать её не пускала. Иногда разговаривала по телефону, поздравляла с днём рождения. Не больше. Сестра тоже держалась на расстоянии, хотя больше других знала всю историю «колдовских» стишат. Скорее всего, опасалась за благополучие своей семьи.
И только с отцом она была близка по–настоящему. Приезжала к нему, привозила подарки его новой семье, часто звонила. Наверное, потому, что даже представить себе не могла, что смогла бы написать что–то из своего «черного» арсенала для любимого папки. Он один её любил и по–отцовски жалел:
– Вот ведь – уродилась ведьмочкой, а ведь какой хорошенькой девчушкой была в детстве!
В частных разговорах по телефону с потенциальными клиентами её услуга звалась версификацией – сложением примитивных стихотворных катренов. Поэзией назвать это было нельзя. Проклятьями, «чёрной магией» – стыдно.
Себя она ведьмой не считала ни в коем случае! Просто так получилось, что она открыла в себе этот дар отмщения. Ну, и заплатила за это щедро: ни семьи, ни мужа, ни детей. Одна версификация.
Иногда хотелось всё это прекратить. Найти какую-нибудь другую работу, создать семью, жить как все.
Телефон прервал её размышления. Звонил какой–то тип, которому было нужно, чтобы она сложила мадригалы на день рождения начальнику. Её дар не используют на добро! Придурок. «Слышал звон, да не знает, где он».
– Версификацией не занимаюсь! – она зло отбросила мобильник на диван подальше.