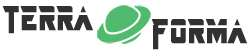Я иду по разрушенным, опустошенным улицам, продираюсь сквозь завалы кирпича и железа, покрытые темной слизью. Под ногами хрустят осколки стекла, смешанные с вязкой жирной землей. Впрочем, нет, это не земля — все та же черная слизь, густым слоем размазанная повсюду. Она облепила мои ботинки, и я уже чувствую, как она медленно заползает внутрь обуви, с неприятным жжением прикасаясь к большому пальцу. Странная черная масса, отдаленно напоминающая гудрон, оставляет на коже ярко-красные жгучие следы. Узнать это, увы, мне пришлось экспериментальным путем: несколько часов назад я поскользнулся, наступив на склизкую крышку канализационного люка, и упал на четвереньки, утопив руку в ядовитой жидкости по самый локоть. Я поспешно обтер ее, и, смутно припоминая уроки техники безопасности, хотел промыть проточной водой, но познания эти оказались бесполезными: в окружавшем меня хаосе едва ли можно было найти воду. Оставалось только двигаться дальше и постараться свыкнуться с нарастающей болью. Изредка я поглядывал на руку. Пятна потемнели и из красных стали сине-лиловыми, поврежденная кожа покрылась мелкой сеточкой морщин и едва заметными язвами. Пальцы сгибались все труднее и непослушнее. Когда язвы заблестели тусклыми кровяными каплями, я перестал смотреть на них, и все внимание сосредоточил на движении вперед.
Интересно, как долго я сплю? Почему этот кошмар никак не заканчивается? Надо что-то сделать, чтобы проснуться, хотя мне еще ни разу это не удавалось. Может, в сегодняшнем сне все будет иначе.
Первой отчаянной мыслью было взобраться на полуразрушенное двухэтажное здание, служившее когда-то, судя по вывеске, магазином одежды, и спрыгнуть с него вниз. От резких падений во сне люди всегда просыпаются. Однако я быстро отказался от этой идеи: слишком правдоподобно выглядел ночной кошмар и слишком болезненным представлялось падение. Щипать себя я пробовал — без надежды на успех, потому что щипок почти не чувствовался из-за пульсирующего ожога. Что ж, если покинуть ужасный сон по своей воле не получается, значит, надо просто ждать. Буду блуждать по останкам города, пока кто-нибудь наконец меня не разбудит. Хорошо еще, что я могу хотя бы мыслить и действовать по своему усмотрению, а не слепо повиноваться игре подсознания.
Странно, почему-то во сне мой мозг работает гораздо лучше, чем наяву. Все поступки становятся логичными и последовательными, появляется способность рассуждать, исследовать, наблюдать, подмечая мельчайшие детали, анализировать окружающий мир, улавливая информацию каждой клеткой тела. Голова освобождается от дневного бреда, и мысли приобретают необычайную чистоту и упорядоченность, резко контрастируя с царящей вокруг катастрофой. Иногда мне кажется, что я единственный уголок порядка, сохранившийся в обезумевшей Вселенной. Мой сон наполнен болью, страхом и отчаянием, но есть в нем и нечто приятное, настолько приятное, что оно заставляет мой разум возвращаться в этот непонятный мир каждую ночь, снова и снова. Во сне я нормален.
Моя жизнь, настоящая жизнь, проходит в лечебнице. В ней много тишины, спокойствия, сладкого безразличия, близкого к самозабвению. Я уже не помню, сколько лет провел в больничных стенах — может год, может десять. Лекарства и рутина вырезали из моей жизни большие куски, оставив только мелкие, плохо сшитые обрывки лиц, слов и ощущений. Когда я проснусь, меня встретит надоевшая, въевшаяся в кожу тишина, белые стены палаты, запах спиртовых салфеток и ампул с успокоительным. И боль уйдет, и страх, и противная черная слизь, обволакивающая сознание, и горький привкус во рту. И что-то еще. Что-то очень важное, придающее смысл всему существованию — ускользающая цель, центр, вокруг которого вращается мой мир. Стоит убрать эту неуловимую точку опоры, и сознание летит в пустоту, в гнетущее белоснежное безумие.
У меня есть какое-то предназначение. Сейчас, во сне, я был абсолютно уверен в этом. Я должен выполнить свою миссию. Вот только в чем она заключается? Этого я не знал, хотя отравленный город снился мне уже далеко не первый раз. Наверное, если я увижу свою цель, я пойму, что это она. И может быть, прекратится бесконечный отчаянный поиск, сон отступит, и … А что, собственно, потом? У меня нет ничего, кроме этих разрушенных многоэтажек, безлюдных переулков, где по канавам стекает черный яд, а возле мусорных куч изредка попадаются полуживые голуби, и редких деревьев с мертвыми скрюченными листьями.
Я осторожно, стараясь ничего не касаться, перелез через упавшие на дорогу строительные леса. Опухшая рука страшно болталась, словно чужая, и я вдруг понял, что больше ее не чувствую. Пошевелить пальцами тоже не удалось. Теперь я и моя рука стали будто бы разными организмами. Но в этой потере, несмотря на всю ее дикость и чудовищность, было одно преимущество: исчезла боль, и мысли, невольно вращавшиеся вокруг нее, наконец обрели свободу и разбрелись к самым разным вопросам.
Бывают ли здесь день и ночь? Определить это было трудно. В обездвиженном воздухе висел мутный, неестественный сумрак, слегка дрожавший, как перегоревшая лампочка. Его причиной был странный темно-фиолетовый туман, закрывавший собой все небо. Ядовитые испарения клубились, принимая причудливые формы, и мне почему-то казалось, что они испускают свой собственный бледный свет. Когда я вдыхал слишком глубоко, горло сковывало сильное жжение, а на глазах появлялись слезы. Я уткнул нос в ворот рубашки и мелко дышал через тонкую, плохо защищавшую ткань. Через каждые двадцать шагов я останавливался, сгибаясь от выворачивающего кашля. Во время одной из таких остановок я краем глаза заметил, что воротник стал влажным и красным.
В тот момент я впервые остро ощутил страх. Не за себя и свою жизнь, а за неведомую цель, которой, возможно, так и не удастся достигнуть. Если я погибну во сне, смогу ли я снова вернуться в этот безжизненный мир, или так и останусь навсегда в психиатрической лечебнице? Надо идти быстрее.
Стоп. Кто это? Человек? Странное существо, лежавшее на влажно блестевшем асфальте, нельзя с уверенностью назвать человеком. Черная, как смоль, скользкая кожа обтянута прилипшей черной тканью, руки и ноги дергаются, словно от судороги. На фоне черного вспухшего лица глаза казались еще безумнее, чем были на самом деле. Человек издал хриплый звук и шевельнулся. Я приблизился к нему. Наверно, надо как-то помочь. Но человек был покрыт ядовитой слизью, и прикоснуться к нему значило обжечь и единственную здоровую руку. Поколебавшись, я осторожно тронул его носком ботинка. Тот не почувствовал и снова дернулся, беззвучно и жалко. Потом он замер, но белки глаз продолжали сверкать на черном лице, блекло отсвечивая фиолетовым. «Иди дальше, не стой здесь, — вслух скомадовал я. — У тебя есть цель».
Вперед. Я старательно ощупывал ногой каждый клочок поверхности, на который собирался ступить: что может быть ужаснее, чем снова плюхнуться в химическую лужу? Не знаю почему, но после встречи с тем человеком что-то внутри меня изменилось. Я понятия не имею, ни кто он, ни что с ним произошло, он просто случайный незнакомец, чужак, и его судьба вряд ли должна волновать меня больше, чем участь облезлых голубей. Но в голове снова и снова повторялся дикий хрип, а белки глаз неотступно следили за мной из тумана, напоминая о чем-то забытом, но жизненно важном. Словно сквозь этот чужой черный образ тянулась тонкая нить, один конец которой вел к моему неизвестному прошлому, а другой — к будущему, к заветной цели, и сейчас я жадно цеплялся за эту нить, мысленно распутывая ее.
Мог ли я спасти того человека? Едва ли. Я даже себе не могу помочь. Но зачем тогда все это? Зачем упрямо идти сквозь туман, если и я, и весь мир обречены? Цель. Подсознание толкает меня вперед, значит, не все потеряно, и что-то еще можно спасти. Нечто ценное, бесконечно дорогое и любимое.
Прежде в своих сонных похождениях я старался не посещать здания: полуразрушенные конструкции грозили вот-вот развалиться. Правда, несколько раз я все же входил в сумрачные подъезды и поднимался на несколько лестничных пролетов, очень аккуратно, не задевая стен и перил. С высоты мне открывались городские руины: многоэтажные дома с выбитыми стеклами, неподвижные машины, облепленные едкой массой, кое-где даже люди, похожие на призраков. Некоторые медленно шли, шатаясь, как иду теперь и я, другие лежали на обломках, почти слившись с ними. Я мог бы, пожалуй, найти их на улицах, но они были мне безразличны. Ничто не имеет смысла, кроме цели.
Сейчас я снова решил оглядеть город, избрав смотровой площадкой старый невысокий барак. По его стене к самой крыше тянулась узкая пожарная лестница, довольно удобная при взгляде снизу. Входить внутрь мне не хотелось: в закупоренном помещении фиолетовый газ становился таким концентрированным, что неподвижный воздух сиял и переливался ядовитым светом, а кашель становился невыносимым. Я подошел к лестнице, счистил скользкую грязь с подошв и натянул рукава так, чтобы закрыть пальцы. Обожженная рука отказывалась подчиняться, и я оставил ее в покое, положившись на здоровые конечности и свою ловкость.
Подъем оказался куда более трудным, чем я представлял. Тонкие перекладины выскальзывали из-под ног, и я едва успевал перехватывать железные опоры единственной рукой. Чем ближе был финиш, тем сильнее я жалел, что не воспользовался обычной лестницей. Главное не смотреть вниз. Не останавливаться. Не смотреть вниз, только вверх, на остаток лестницы, струны проводов и клубящееся небо. Еще с десяток шагов и перехватов, и я на крыше. Не смотреть вниз. Девять, восемь… Нога предательски шевельнулась. Я взметнул руку, пытаясь ухватиться, спасительное железо мелькнуло под пальцами и исчезло. В глаза бросилось необъятное фиолетовое небо, сменившееся чернотой. Я рухнул на мягкий мусор, подняв смоляные брызги.
Первым, что я почувствовал, было тепло. Странно приятное, но от этого еще более пугающее. Штаны, рубашка, волосы и кожа были покрыты слизью. Я встал на четвереньки, все явственнее ощущая жжение в глазах и на коже. В голове тотчас возникло черное дергающееся существо с безумным взглядом. Теперь я выгляжу в точности как тот человек. Сколько времени пройдет, прежде чем я утрачу разум от боли? День, час? Я попробовал встать, но земля вылетела из-под меня, и я снова упал. В носу засверлило от резкого вдоха, горло стянуло судорогой. Прямо передо мной жирно сверкало ядовитое вещество. Злорадный блеск, как ухмылка победителя. Я закрыл глаза.
Тишина. Белый потолок. Они терпеливо ждали меня, как хищники свою жертву. Звякают ампулы. Я вернулся. Вот только вернулся, кажется, не полностью: самая главная часть меня осталась в другом мире.
Не люблю белый цвет. От хуже черноты — такой пустой, надменный, недосягаемо идеальный. В нем нет пятен, и смысла тоже нет. В реальности все бессмысленно.
Я лежал на спине на жестком матрасе больничной койки, слушая, как шуршит при дыхании мой синтетический халат. Ничего не изменилось за время моего сна. Белая комната никогда не меняется, она замерла во времени и пространстве, словно не являлась их частью. Тоскливая статичная реальность, выйти из которой можно было только одним способом: нырнуть в себя, в изменчивое море собственных мыслей.
Для начала я изучил сигналы своих нервных окончаний. Страх и напряжение испарились. Я пошевелил пальцами: они подчинялись мне беспрекословно. Жгучее воспоминание мелькнуло где-то в подсознании, и я рывком соскочил с койки и бросился к умывальнику в углу комнаты. Несколько минут я безумно тер ладони под холодной струей, смывая несуществующую слизь. Не знаю, что заставило меня совершить эту глупость — вполне разумный инстинкт самосохранения или моя душевная болезнь. Санитар, вбежавший ко мне в комнату, наверное склонялся к последнему. Он твердо сжал мой локоть, выключил клокочущий кран и вернул меня на койку.
— Все в порядке, — тихо проговорил я, хотя голос предательски дрожал. — Когда будет очередная инъекция?
Санитар, похоже, не услышал моих слов, а если и услышал, то не счел нужным отвечать. Пожалуй, для него я ничем не отличался от мебели: у мебели ведь тоже нет разума.
— Есть какие-нибудь новости для меня? — это вопрос стал нашей общей традицией. Я задавал его при каждой встрече, не рассчитывая на ответ, санитар, согласно сложившемуся обычаю, угрюмо молчал. Не знаю, зачем я спрашивал. Может просто чтобы напомнить себе, что существует что-то за пределами этой палаты, что я не всегда был здесь, и что однажды, возможно, я покину свою идеальную камеру.
Немой человек в белом халате склонился над тележкой с капельницей, а я откинулся на подушку. Интересно, как появляются сны? Как вообще больное воображение смогло придумать этот фантастический уродливый город? И почему больше всего на свете я хочу туда вернутся? Мне вспомнился огненный спазм в горле и волна холодного ужаса, прокатившаяся вслед за ним. Я все равно хочу туда. Может, поэтому я и оказался в сумасшедшем доме? Белая комната, столь непохожая на черные развалины, была неразрывно связана с ними в моем сознании, они были словно две половины единого целого. Надо закрыть глаза и попробовать уснуть без помощи инъекции снотворного.
В темноте под опущенными веками ехидно блестел жидкий яд. Мою шею точно обхватили раскаленными щипцами, и из нее вырвался низкий рокочущий звук, похожий на хрип того черного человека. Я закашлял, выговаривая между приступами:
— Воздух… Дайте воздух! — слова вылетали из горла на удивление легко. — Воздух!
Сильные руки дернули меня вверх, и я очнулся. Дыхание было частым, но свободным.
— Что случилось? — спросил я, хотя уже знал ответ: временное помутнение рассудка, внезапная паника. Это бывает у таких, как я.
Санитар, не спуская с меня глаз, сообщил кому-то по рации:
— Номер девятнадцатый неспокоен. Да, да, номер девятнадцатый. Жду.
Я забыл свое имя, но это число помню хорошо. Девятнадцать — всего лишь безликий порядковый номер, но всякий раз, когда я слышу его, по телу пробегает нервный импульс, а мысли сковывает знакомое мучительное напряжение, как-будто пытаешься вспомнить то, чего никогда не знал. Девятнадцать. Один и девять. Единица…
В палату, шумно хлопнув дверью, вошел высокий доктор. Его визиты всегда были громкими и даже торжественными. Он стремительно приблизился ко мне, на ходу подхватил какие-то бумаги из рук преследовавшей его медсестры и бухнулся, не глядя, на услужливо подставленный стул.
— Он начал задыхаться, — сообщил санитар. — Просил воздуха и хватал себя за шею.
— Любопытно, — доктор посмотрел на меня. Я постарался сделать серьезное лицо. — Что ж, удивляться нечему. В комнате и правда очень душно. Судя по всему, сигналы органов чувств наложились на воображаемые образы, и возникла галлюцинация. — Он перевел взгляд на санитара. — Его бы на улицу.
— Но ведь из закрытого отделения… — неуверенного заговорил тот, но доктор прервал его:
— Ничего страшного, просто наденьте смирительную рубашку. Тридцати минут будет достаточно.
И он вскочил, грохнув стулом, и быстрыми шагами вышел за дверь, так же стремительно и неожиданно, как и вошел.
Меня повели долгими белыми коридорами, крепко держа за локти, словно я мог вырваться в любую минуту. Руки были стянуты так крепко, что пальцы похолодели. Снизу, сверху, с обеих сторон меня окружала белизна — абсолютная, совершенная, вечная. Белые коридоры, белые двери, белые квадратные лампы на потолке — все слилось перед глазами, и начало казаться, что и я в своей белой рубашке, и двое белых санитаров, вполголоса бранивших прогрессивную методику доктора, растворились в чистом пространстве.
Я считал шаги, но сбился со счета, добравшись до девятнадцати. Один и девять. Почему девять? Что такое девять? Я знаю ответ, знаю, просто забыл. Девятнадцать…
Свет ударил в глаза яркими пятнами. Мы вышли в больничный сад.
От запаха травы и свежего ветра кружилась голова. Я, наверное, упал бы, если бы не мои надзиратели. Они едва ли не волоком потащили меня и усадили на твердую горячую поверхность. Несколько минут я просто дышал. Карусель пестрых бликов понемногу улеглась, стали различимы очертания сада. Я сидел на нагретой скамейке и, щурясь от солнца, впитывал глазами насыщенные цвета: голубое небо, желто-лиловые клумбы, зелень кустов и деревьев. Все это казалось таким удивительным и невозможным после белой комнаты и черных снов. Я смотрел, стараясь не моргать, словно боялся, что чудесное видение исчезнет, и от выступивших слез картинка расплывалась, дробилась на мелкие сверкающие осколки.
Наконец я рискнул моргнуть. Ничего не исчезло, даже напротив, сад стал еще более ярким и четким, и я разглядел множество бабочек, беззвучно порхавших над высокими цветами. Прозрачные крылья мелькали то оранжевым, то сиреневым. Насекомые кружились в хаотичном танце, все быстрее и быстрее, и мой взгляд кружился вместе с ними, взмывая к небу и опадая в траву. Одна из бабочек села мне на руку. Я ощутил ее легкое прикосновение через плотную ткань рукава. Длинные усики неожиданной гостьи лениво шевелились, крылья, огромные, размером с ладонь, замерли в задумчивости, раскрыв свой красочный узор. Я тоже замер, из-под полузакрытых век разглядывая причудливые красные полосы и пятна на светло-фиолетовом бархате пыльцы. Где-то я уже видел этот рисунок.
Больничный сад был пронизан покоем и узкими солнечными лучами. Даже воздух пропитался гармонией и умиротворением. Но что-то отталкивающее и фальшивое таилось в теплой безмятежности, что-то нависло надо мной, угрожая обрушиться. Запахи цветов вызывали тошнотворный привкус во рту, синева неба резала глаза, а неподвижная бабочка на моей руке пугала сильнее, чем бессмысленные белые глаза на черном лице. Смирительная рубашка не позволяла мне отогнать насекомое.
Я отвернулся, и сделал то, что делал всегда, когда не мог сопротивляться: ушел в единственную открытую дверь — в себя. Солнце сочилось сквозь ресницы янтарным светом. Потом он стал фиолетовым, а вскоре сменился кромешной темнотой. Мысли беспорядочно проносились в голове. Полосатые бабочки, бабочки в горошек. У них неровные, бесформенные крылья. Светло-сиреневые, а на них нарисованы оранжевые единицы и девятки. Много-много бабочек кружатся под солнцем, и по телу разливается солнечное тепло. Все исчезает, расплывается, остается только теплота и долгожданная сонная слабость.
Жирная чернота отдалилась от моего лица. Я приподнялся на локтях, отплевываясь и тряся головой. Мои руки, ноги, лицо и грудь горели, обожженные. Выпрямившись в полный рост, я злобно глянул на злосчастную лестницу, так и оставшуюся непокоренной, и неуклюже побрел по темной улице. Ноющая боль сковывала мозг. Я шатался, то и дело наваливаясь на черные стены зданий, прижимаясь к склизкому кирпичу. Ничего. Скоро боль уйдет. Скоро, очень скоро, может быть, даже скорее, чем я думаю. И станет легко, и все обретет смысл. Надо продолжать двигаться, скрипя челюстью и царапая зубы, надо идти. Я не верил, что сумею дождаться финала. Я уже ни во что не верил, кроме непоколебимой священной цели. Она заслуживает всего пережитого, без сомнения.
Несколько раз я падал. Временами опухшие ноги не подчинялись мне, и тогда оставалось лишь ползти, цепляясь штанами за острые железяки, торчавшие из-под завалов. Я разгребал черный мусор воспаленной, но еще живой рукой, другая безжизненно волочилась следом. Кашель сотрясал меня не переставая, пришлось наловчиться делать вдохи в редких промежутках между приступами. Иногда я поднимал голову и смотрел вверх, на одинокие разбитые дома, преследуемый ощущением дежавю: чудовищные фасады, зияющие пустыми оконными проемами, казались знакомыми, даже родными. Был ли я здесь раньше? Я много где побывал в своих сновидениях, кто знает, быть может, сны повторяются. Любопытно… Что ж, если я тут не впервые, то где-то за углом сейчас появится фонарный столб. А если нет, то…
Фонарный столб действительно появился, правда, он не стоял, а лежал на земле, опутанный разорванными проводами. Теория оказалась верной. Я перелез через него и остановился. Прямо передо мной возвышался двенадцатиэтажный дом. В куреве тумана виднелись его черные стены. Впрочем, нет, не черные: я был уверен в этом, хотя зрение кричало об обратном. Серые. Из серых панельных плит. Я подошел к зданию и безотчетно провел пальцами по его липкой поверхности, оставляя на слизи светло-серые следы.
Я вошел внутрь. Едкий воздух наполнил легкие и глаза, на языке появился горьковато-соленый привкус крови. Я потерял нюх, зрение и вкус, в ушах стояла плотная тишина. Осталось только недолговечное осязание на кончиках обожженных пальцев. Я нащупал перила лестницы и пошел вверх. Я поднимался медленно, рассчитывая каждое движение. Шаг, еще шаг. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выдох. Выдох. Я задохнулся. Тишину раздробил глухой удар.
Солнце пекло по-прежнему, и бабочка никуда не улетела. Она ползла по моему рукаву, шевеля сияющими крыльями. И вдруг узор на них начал темнеть. Чернота неумолимо растекалась по золотистой пыльце, сиреневые полоски вспыхнули ядовито-фиолетовым. Я в ужасе соскочил со скамьи, дергая всем телом, как от судороги. Бабочка взмыла вверх и плавно полетела над садом. Листья и трава вокруг увядали и скрючивались, с них стекали вязкие жирные капли. Я хотел бежать, но тут всюду: из клумб, из кустов, из травы — посыпались черные крылья. Бабочки метались темными пятнами, словно обезумев, бились друг о друга. Несколько секунд продолжалась их неистовая пляска, а затем они все разом кинулись на меня. Насекомые путались в волосах и ползали по одежде, пачкая белую ткань черной пыльцой, а я прыгал и извивался всем связанным телом, до тех пор, пока не упал на землю.
Я сидел на каменных ступенях, вцепившись в перила. Голова гудела. Тишина в ушах сменилась оглушительным звоном. Я снова полез вверх.
Неизвестно, сколько лестничных пролетов осталось позади, но цель была близко. Я чувствовал ее, но не телом — оно уже ничего не чувствовало — а чем-то другим. Холодные ступени уходили вниз.
Я дополз до ровной поверхности. Справа и слева в неестественном зловещем свете проступали темные двери. Некоторые из них были распахнуты настежь, открывая темные туннели квартир. Не раздумывая, я повернул направо, к коричневой полуоткрытой двери. Сквозь узкую щель можно было разглядеть столбы ядовитого газа, витающие во мраке помещения. Я коснулся ручки, и вдруг прямо на уровне глаз возникли золотые цифры — один и девять. Девятнадцатая квартира.
Кашель не прекращался, но я больше не обращал на него внимания. Я шел — или полз, не знаю, — вперед, к самой дальней комнате. Осязание покидало онемевшие конечности, но мне не нужна была его помощь, я твердо знал, куда и как идти. Возле последней комнаты что-то заставило меня остановиться. Цель была в нескольких шагах, но жуткий, почти первобытный страх не позволял их сделать. Что если я не найду ее? Что если я опоздал?
Я знаю, зачем — за кем — пришел сюда. И я, кажется, помню, что произошло, хотя сознание упорно отказывается принять страшную действительность.
Я бесшумно шагнул в полумрак. Клубы тумана заколебались от моего движения. Здесь было гораздо светлее, чем в остальной квартире, благодаря широко открытому окну. Под окном стояла маленькая темно-синяя кровать. Обои тоже были темно-синие, а на них в беспорядке наклеены оранжево-сиреневые бумажные бабочки. Неумело вырезанные крылья походили на бесформенные пятна. Я смотрел на них слезящимися глазами, и вдруг они взвились в воздух пестрой стаей и полетели на меня. Я отмахнулся, чувствуя, как тонкая бумага царапает кожу, не удержал равновесие и грохнулся на пол.
Я катался по черной земле, а насекомые лезли мне в лицо, не давая вздохнуть. Раздался крик, далекий и как-будто чужой, треск разрываемой ткани, и я почувствовал, как согреваются онемевшие ладони. Разодранная смирительная рубашка была отброшена в сторону, снова послышался крик. Бабочки замерли от этого звука, и кошмар мгновенно прекратился. Черные крылья посыпались на меня, как сухие лепестки, некоторые прилипали к моим покрытым грязью ботинкам.
Я прополз несколько метров вперед.
— Я здесь, — шепотом произнесли мои губы. — Я здесь.
Ничего — только тишина и фиолетовый туман.
— Я здесь! — хрипло крикнул я. — Я вернулся. По-настоящему вернулся! Где ты?
Я вытянул единственную руку, шаря по полу. Пальцы натыкались на ножки кровати и разбросанные осколки. И вдруг — что-то нежное и мягкое, похожее на человеческую кожу, но пугающе холодное. Я подполз и положил тяжелую голову на маленькое тело. Тишина. Жуткая, безумная тишина, ядовитое беззвучие. Нет! Я слышу! Робкое, но живое постукивание. Он жив. Я чувствовал крупные волны дрожи, бегущие по моим конечностям. Нельзя тут оставаться. Давай, беги, быстрее!
Опомнившись, я вскочил на ноги, стащил с кровати одеяло и бережно обернул им ребенка, стараясь не дотрагиваться до него запачканными руками. Подхватив драгоценный сверток я бросился вон: вон из комнаты, вон из дома, вон из этого жуткого смертельного тумана. Комнаты и ступени мелькали чередой бессмысленных картинок. Все остатки сознания сосредоточились вокруг легкого хрупкого тела, мне казалось, что каждая моя клетка, каждый орган функционируют только для него. Они поддерживали его жизнь, а не мою.
На улице я опустил одеяло на землю и сам лег возле него. Дыхание ребенка было тихим, как шелест крыльев бабочки. Я слушал его, усилием воли сдерживая приступ кашля. Он выживет. Сделает то, чего мне не удалось. Будет жить…
Я знаю, что произошло. Мой мир уничтожен. Я часть умирающей реальности, но это дыхание — нет. Оно будет длиться еще долгие годы и встретит новую эру. Как же хочется в это верить.
Забытая боль вернулась внезапно и яростно, наверное, хотела отомстить за мою недолгую победу. Кровоточащие язвы горели, огонь струился по венам. Боль накрывала меня с головой, и больше всего я боялся, что если закрою глаза, то захлебнусь и утону в ней. А что потом? Что будет, когда я достигну дна? Снова белая комната, снова безумие? Нет. Теперь все обрело смысл. Все существует ради дыхания маленького человека рядом со мной. Это центр Вселенной.
Боль погасла. Погасло фиолетовое небо. Мир вокруг исчезал, таял, как мираж. Сейчас он казался даже красивым: удивительное величие хаоса. Напрасно ждет меня белая тишина. Я всегда был здесь. Я всегда буду здесь. Я останусь дома, в дорогом мне кошмарном сне.