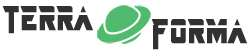МИХАИЛ УРЖАКОВ
SIX
Хроники Кулуангвы
(volume #3)
2019
ПРОЛОГ
老师的声音柔软而破裂。如此安静,以至于他的听众不得不向前倾一点并略微转过头。老师用一种简单的方式迅速说话,没有说清楚,声音均匀。
— 对我们来说,主要的策略叫做“晴朗的一天隐藏得比黑夜更好”。确认这一战略忠诚的一个例子是在其中一场战争中夺取内蒙古。皇帝原本应该前往内蒙古,但是他不想在游行期间大海忙乱,在陆地上游玩是不舒服的,一切都可能以悲惨和错误的方式结束。但后来他的指挥官说服了皇帝,他应该去富裕的农民家吃饭。他去了富农,当地土地所有者的家。他去了这所房子,应该在那里过夜,而不是回到营地。在那里,皇帝和他的军阀正在骚扰舞者,嫔妃,音乐家,以及皇帝所应有的一切。纠正呢?然后皇帝上床睡觉,这个富有的农民,当他醒来时,原来他们已经远在海里了。这不是富农的家,他以为他昨天来了,那是一艘船!
老师喘了一口气,然后,发出声音,继续充满热情和激情,以至于人们可以认为他已经等了一辈子才有机会说出这些话。
— 这是一艘船!皇帝到了船上,举行了一场盛大的庆祝活动,然后皇帝和士兵们累了睡觉。但它一直是一艘船!这艘船整晚都在征服内蒙古!这非常重要!晴朗的一天隐藏得比黑夜更好!作弊应该像这样,开放和愤世嫉俗。每个人都必须相信我们!
老师抬头看着听众,继续说道:
— 陶船長!
— 她是的!老师,那个!
— 你的使命很棒,相信你,我希望你在行动前重复我们使命的主要战略……
— 再一次,老师?
— 是的,再次……
— 她是的,老师,带着骄傲和幸福,我向你重复一遍!
陶船長,一个身材矮小干燥的男人,褪色而温暖的衣服来自皇家网络淘宝,一张褪色的脸,某种“弯曲”的头部带有黄色的支架,一个带有弯曲的腿的身体,但本身有一个直的架子,仿佛变成了一个地板书柜,它的后背,抬起下巴,拍着他的kaddyk,用喉音打磨:
— 首先是战略。当敌人遭受巨大伤害时,借此机会从中受益。
第二个。受益于敌人的痛苦或困难,利用他的弱者或不舒服的状态。
三。当敌人处于混乱之中时,是时候战胜他了。
快速果断地介入情况并完成自己的任务。
第四个。我们的法律 — “如果成功,皇帝,如果失败 — 蠕虫。”
一个明确的行动计划,决心,速度,没有任何内部道德禁令。
我们不需要知道关于对象问题规模的确切信息。我们只执行老师的命令。
— 她是的,陶,我们都知道时机已到!但是你有很多话,陶! — 老师紧张地拉着灰白的头发,金色的,他的头 — 简短,儿子,只要给我基地,请老人……这就是我需要确保你会到达的!您将以我们所有人的名义知道您的联系方式。
“当然,老实说,老石。”他也大胆地摇了摇头,好像在试图揍人。他开始流畅而清晰地说话,有时闭上眼睛,仿佛在学校的笔记本上读取记忆中的文字。一,二,三.
———————————————————————————————————————
Голос Лао Ши звучал тихо и надтреснуто. Так тихо, что его слушателям приходилось немного наклоняться вперед, слегка поворачивая головы. Говорил же он быстро, по-простому, не артикулируя, ровным голосом, словно хотел поскорее все высказать, чтобы не забыть что-то ненароком.
— Главная для нас стратагема сегодня — та, что имеет название «Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь». Один из примеров, который приводится в подтверждение верности этой стратагемы, — захват Внутренней Монголии нашей Империей в одной из войн. Император собрался в поход на Внутреннюю Монголию, но он не хотел, чтобы море во время похода было бурное и неспокойное, обходить же врага по суше было неудобно, для войска все это могло закончиться трагически. Военачальники уговорили императора поужинать перед походом в доме богатого крестьянина. Император отправился в дом местного землевладельца, где должен был заночевать. Там император и его военочальники бражничали с танцовщицами, наложницами, музыкантами. Разве это не в порядке вещей? Потом император лег спать, а когда проснулся, оказалось, что он не в доме богатого крестьянина, а на командорском корабле! И плыли они далеко в море.
Лао Ши на секунду перевел дыхание, а затем, повысив голос, продолжил с таким пылом и страстью, что можно было подумать, будто он всю жизнь ждал возможности высказать эти слова.
— Это был корабль! Император прибыл на корабль, где случился праздник, потом он и его воины утомились, пошли спать. Но все время они были на корабле! А корабль шел всю ночь завоевывать Внутреннюю Монголию! Очень важно: ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Обман должен быть вот такой — открытый и циничный. Все должны нам поверить!
Лао Ши поднял глаза на слушателей и продолжил:
— Капитан Тао!
— Шэ да! Лао Ши, той!
— Твоя миссия велика, и, веря в тебя, я хочу, чтобы перед операцией ты повторил после меня главные стратагемы нашей миссии…
— Еще раз, Лао Ши?
— Да, еще раз… Еще раз…
— Шэ да, Лао Ши, с гордостью и счастьем повторяю их вам!
Капитан Тао — невысокий сухой человек, видно, что военный, хотя на нем блеклая теплая одежда из императорской интернет-сети «Тао Бао». И такое же блеклое лицо. Неровная голова с желтой пролысиной. Тулово крепится к кривоватым ногам. Спина прямая, словно вверченная в пол этажерка. Задрав подбородок и клацая кадыком, отшлифовал гортанным голосом:
— Следующая стратагема гласит: «Когда враг понес большой урон, воспользуйся случаем — извлеки пользу для себя». Из нее исходит другая: «Извлеки пользу из бедственного положения или трудностей врага своего, воспользуйся его слабым или неудобным состоянием». Третья: «Когда враг повержен в хаос, то пришло время восторжествовать над ним. Быстро и решительно вмешайся в ситуацию и осуществи собственные задачи». Четвертая — наш закон: «В случае успеха — император, в случае неудачи — червь». Четкий план действий, решительность, скорость, отсутствие каких-либо внутренних моральных запретов. Нам нет необходимости знать точные сведения о масштабах проблем нашего объекта. Мы только исполняем твой приказ, Лао Ши.
— Шэ да, Тао, мы все знаем, что время пришло! Но у тебя много слов, Тао! — Лао Ши медленно повел седой с пролысинами головой. — Будь краток, сынок, просто дай мне основу, порадуй старика… Это все, что мне надо, чтобы быть уверенным, что ты дойдешь! Ты дойдешь, зная, во имя чего мы все делаем.
— Жизнь моя для тебя, Лао Ши!
Военный ровно, четко говорил, иногда закрывая глаза, словно читал текст из школьной тетради по памяти, покачивая головой, как старый глиняный божок. Пух на подбородке и на огромном выступающем кадыке мерно колыхался в такт словам. Первое, второе, третье…
- Заведи Императора в воду.
- Убей себя огнем.
- Отключи свои чувства.
- В покое на берегу ожидай труп врага, проплывающий по Ши Ги Ли.
- Убивай врага во время его испражнений.
- На востоке поднимай Красную волну, на западе нападай огнем.
- Извлекай нечто из ничего.
- Для вида чти Деревянную веру, но втайне вступи в «Кровь Волны».
- Наблюдай за Волной с противоположного берега.
- Скрывай за улыбкой огонь.
- Спаси Храм в радужной обложке.
- Убей собаку соседа легкой рукой.
- Бей по траве сетью, чтобы вспугнуть змею.
- Сбей самолет камнем.
- Тайно подкладывай хворост под котел другого.
- Лови рыбу в мутной воде.
- Объединись с дальним врагом, чтобы побить ближнего врага.
- Объявив, что только собираешься пройти сквозь государство Го, захвати его впоследствии.
- Подпили балки или замени их гнилыми подпорками.
- Делай безумные жесты, не теряя равновесия.
- Взойди на крышу, убери лестницу и стреляй.
- Укрась сухие деревья искусственными цветами.
- Беги! Беги!
- Увидишь будду — убей будду.
- Увидишь родителей — убей родителей.
- Увидишь собаку — убей собаку.
- Увидишь мяч — забери мяч.
— Это все, учитель! — выдохнул Тао и открыл глаза.
Лао Ши ничего не ответил, медленно поднялся с циновки и положил свою сухую руку на плечо воина.
— Цо-Ба, Тао! Цо-Ба! Иди!
ГРАУНД «НОЛЬ»
На всё свой ход, на всё свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва.
Е. А. Боратынский
По просьбе трудящихся двух великих держав,
город Москва с 12 марта 03 года Новой Экзистенции
будет переименован в город МосКа.
Город же Пекин будет переименован в БеЖин.
«МосКа Бао», 10 марта 03 года,
из постановления правительств двух стран
«в честь победы в Третьей белофинской войне»
Не следует слишком рассчитывать на Бога:
может быть, Бог рассчитывает на нас…
Луи Повель, Жак Бержье «Утро магов»
25 декабря 04 года
МосКа, Волхон Кэ, 15
У нее было безукоризненно красивое лицо. Такое безукоризненное, что ее можно было заподозрить в глупости. И он подумал: «А она ведь на мою чем-то похожа. Либо святая, либо дура. Спортсменка-комсомолка. Как там, в этих ничтожных и тупых старых фильмах эпохи доновоэкзистенциализма? Но моя бабенка скорее хорошенькая, чем красивая. А у этой красота… Но безликая, что ли? Ай да святой отец! Какая чудесная девушка! Не из тех, что поглядишь в глаза — и пропал. Что-то другое… Глаз-то за такими длинными ресницами не видно совсем, как за шторами… Хотя что это я… — Он остановил ход своих грешных мыслей. — Любить женщину за красоту — (так сам старец выговаривал ему часто при встречах в храме) — безнравственно».
«Вас ожидают», — спокойно произнесла девушка. Глаза все так же опущены, поправила у виска серый шелковый платок. Ее голос был грудной и приятный, говорила она немного распевно, не с местным московским диалектом. По всей видимости, с дежневским или ермаковским. Странный голос, словно отрешенный, из пустоты. Виду не подала, но наверняка же узнала, несмотря на его очки в тяжелой роговой оправе, тонкие бутафорские усики и низко надвинутый на лоб капюшон плаща-накидки, усыпанный крупными хлопьями снега, которые быстро таяли, превращались в капли.
В храме было жарко. Епископ, или Владыка, не любил холод, хотя снаружи не так уж зябко в эту ночь последней недели декабря. Температура около ноля, но идет густой мокрый желтовато-кислотный снег — слякотно, неуютно. А здесь пахнет восковыми испарениями тысяч свечей, сладким ладаном, терпким пóтом.
Он стоял перед красавицей инокиней, не вынимая рук из прорезей накидки-дождевика. Под прорезиненной тканью обеими руками до боли в костяшках сжимал небольшой саквояж.
Она еще ниже наклонила голову. «Проходите, пожалуйста!» И повела гостя в нижний ярус храма плохо освещенными коридорами, бесшумно открывая тяжелые двери, предупреждая тихим голосом о ступенях: «Сюда, милорд. Осторожно, милорд! Смелее, милорд!»
Храм был большой. «Слишком большой для того малого действа, которое готовится», — подумал он.
Он вдруг вспомнил, что понадобилось его специальное, «великое» разрешение на использование более тысячи тонн, ста двадцати километров, строительного полиэтиленового полотна двух метров шириной, чтобы обмотать храм «с ног до головы» и таким образом защитить от черного пепла, спертого, кислотного, пропитанного стронцием воздуха и от «черных» вандалов, увечащих стены здания каждый божий день. Финансовый расчет на «Оберег Святыни» он получил от своей императорской администрации, не завернул, не отвергнул его с негодованием, а даже добавил количество исполнителей и рабочей силы из числа солдат срочной службы Четвертого Преображенского полка и его имени Второго Стрелецкого батальона. Знал, что и в администрации, и смежники украдут на защитную обертку для своих дач десятку сотен метров, но… это святое. Без этого нельзя. Стрельцы, как главная воцерковленная сила армии, были особенно усердны в работе и за месяц управились с ней. Еще до того, как первые кислотные дожди после первой бомбы «Малыш-12» обрушились на страну.
Наконец инокиня открыла перед ним последнюю дверь. Он, моментально утратив все свои мысли, решительно шагнул через порог в слабо освещенную комнату. Откинул капюшон, и капли слетели на пропитанный воском черный дубовый паркет. Оглядевшись, он сбросил дождевик на спинку кресла, стоявшего у двери, отер ладонью свою совершенно мокрую лысеющую голову и капли пота со лба, достал бумажную салфетку из кармана и трубно высморкался.
***
Когда вошедший сбросил накидку, в его руке показался докторский саквояж коричневой кожи, с металлическими ребрами и потертыми в углах боками. И некоторая взъерошенность позднего гостя, и этот саквояж могли вызвать в памяти стороннего наблюдателя образ булгаковского земского доктора-наркомана на обходе больных.
Посетитель, оказавшийся в храмовых покоях, был довольно пожилым человеком невысокого роста, но подтянутый: ни намека на живот, спина прямая, как у бывшего штангиста или борца. Да, скорее натянутый как струна, нежеле по-стариковски обмякший. Голубые глаза за фальшивыми линзами роговых очков близко и глубоко посажены к носу, большой лоб, мелкий подбородок. Губы сжаты в узкую нить.
Вид у него был усталый и несколько даже обреченный, под глазами залегли темные круги. Он осмотрел комнату и с усмешкой остановил взгляд на своем фотопортрете в золоченой рамке, что стоял на рабочем столе в глубине комнаты. Над столом висела грифельная доска с планом заседаний Партии Свободной Мысли Христа. К столу был прислонен АК-47 с потертым ремнем и не менее потертым прикладом. Два магазина, перевязанные синей изолентой, были пристегнуты, предохранитель снят. «Старая закваска, наверняка еще с Первой Народной белофинской», — подумал вошедший. Потом, не поворачивая головы, посмотрел на хозяина помещения.
Старик сидел посреди комнаты на простом стуле, на спинке которого висел темный подрясник. Он неотрывно смотрел на вошедшего. Взгляд старика тоже был усталый, опустошенный. Глаза не светились уверенной правотой, которую всегда наблюдали многочисленные прихожане собора во время его проповедей.
На полу у его ног лежали черные чугунные гантели советских, черт-те каких времен. «Килограмма по полтора каждая, — определил вошедший. — И стоят немалых денег, антикварные! Так, навскидку, по сто — сто двадцать тенге, как минимум».
Окладистая седая борода выглядела приделанной и портила импозантную внешность старика. Одна ее часть странно торчала, будто зачесанная вперед в форме лопаты, как у актера плохого провинциального театра. Другая же часть бороды рассыпалась по груди, прикрывая белую прыгающую пантеру — логотип красного спортивного костюма, старого, из прошлой экзистенции. Лысина, обычно скрытая во время служб роскошной митрой, сейчас бликовала под желтым светом венецианской люстры.
Старик вытянул вперед губы трубочкой, отчего в профиль стал походить на нечесаного галчонка, и спросил вошедшего:
— Принес?
— Принес.
— Ну и славно, Митя. — Помолчал и добавил: — Хотя славного мало… Ты очки-то сними. Всё в разведчиков играешь, Штирлиц… — Он еще немного помолчал, вздохнул и тихо сказал: — Надо завершать нам это дело, дорогой ты мой человек.
— Да, пожалуй.
Гость, которого старик назвал Митей, вскинул правую руку и взглянул на часы.
— Четверть двенадцатого. Успеем?
— Успеем-успеем. Минутой раньше, минутой позже — не принципиально, я думаю.
Старик пригладил бороду, повел плечами и ногой задвинул гантели под стул. Дмитрий тем временем ходил по комнате в задумчивости, не выпуская саквояж из рук. Хозяин продолжал разговор:
— Один приехал?
— Один. — Дмитрий повел плечами, словно боксер перед выходом на ринг.
— Охрана?
— Сбежал я. Вернее, Сашка, начальник моей охраны, и организовал мне «побег». — Он усмехнулся тонкой полоской губ. — Родительскую «Волгу», ГАЗ-24, подогнал.
— Не разучился еще сам-то машину водить? Всё с мигалками туда-сюда носитесь как оглашенные! Ээ-эх, горды-ы-ня!
— Так ведь она у меня одна, машина-то, подарок отца. Силы уже, конечно, не те, но руки помнят. — Он снова криво улыбнулся. — Это ж не иномарка какая-нибудь, да и улицы скользкие. Но ничего, как видишь, добрался!
— Инома-а-арка, — передразнил старик. Потом деловито спросил: — В автомойке припарковался?
— Да, как обговаривали. Подальше от глаз. И закрыта мойка уже для публики, можно не волноваться.
— Вот и славно. За нами, за Церковью Святой, сейчас, и правда, так Глаз наблюдает, что — Господь и святой Владимир свидетели — скоро уже рентген не нужен будет. — Он помолчал, посмотрел на Дмитрия сквозь щели припухших век близорукими, словно нарисованными глазами.
— Ну ладно, давай показывай!
Дмитрий подошел к столу, аккуратно взял за цевье и переставил в сторону калаш. Потом, перехватив взгляд старика, спросил:
— Что, все еще сам в дозор по ночам ходишь? Молодежи совсем не доверяешь? А не страшно? Давай я прикажу, доставят тебе АК-104, что ж ты все с 47-м кочумаешь?
— А, что ж делать, Митя, привык я еще с тех, старых войн, к простому оружию. Как лозунг гласит святой: «С крестом и пулеметом». Столько дерьма вокруг развелось! Ты же со своей гвардией не защищаешь Господа нашего и святого Владимира. Ордами на церковь ходят по ночам, как вампиры! Едва отбиваюсь, иногда по цинку патронов за вечер уходит на нехристей.
— Подстрелил кого-нибудь в этот раз? Возрадовался душой своей скорбной?
— Нет, не удалось. — Старик с неудовольствием покачал головой. — Испугались святого действа, разбежались все перед Рождеством Христовым, как гниды под ногтями… Быстро бегать стали, черти! Прости меня, Господи, за срамное слово! Ты бы наряды-то полиции своей народной увеличил бы у храма, а то у меня скоро патронов не останется! Говорю тебе, по цинку, по восемьсот патронов, в день отстреливаю. И все наблюдаю и вижу, как бездырые убегают и попердывают, а безносые догоняют и понюхивают. Вот как-то так…
Дмитрий усмехнулся. Наклонив лысеющую голову, осторожно открыл саквояж — выложил на широкую ладонь черный шарообразный предмет, сантиметров пятнадцать в диаметре, по виду сделанный из воска или сырой резины. Поднял глаза на собеседника — в них читалась нерешительность, если не страх.
— Значит, друг мой, пришло время? Или, может, забудем все? — с расстановкой, упавшим тоном и с видом давно сомневающегося, но наконец решившегося человека спросил он.
— Что ж, такова воля Божья. Это больше не в наших руках и не в наших силах. Так, может, оно и лучше — очистимся от скверны.
— Или как раз ввергнемся в нее?
— Ну, уж не нам решать. За нас все решено, каким способом очищаться будем. — Старик повысил голос: — А Бог милостив, Он знает, в какую сторону повернуть. И нам надо хоть немного верить друг другу. А мы с тобой играем во всесильных. — Сухо покашляв, продолжил: — Мужчины перестают играть в эти игры только на смертном одре. Ни в ком так глубоко не сидит комплекс неполноценности, как в претендующих на то, чтобы быть сильнее всех. Но мы с тобой эту партию будем разыгрывать на одной доске.
— Лучше сказать, на одном футбольном поле, — подхватил, в очередной раз усмехнувшись, Дмитрий. — И нам не мешало бы приблизиться к менталитету играющих в футбол детей. Люди ценят детскую непосредственную отчаянность и, к слову, цинизм. Возраст же наделяет проклятьем здравого смысла. Но сейчас нам это действительно необходимо.
— Что ты знаешь о людях? Посмотри, до чего державу довел! Четвертая война на пороге, грязь, падонство, голод, жизнь паскудная. Сограждане, может, сами и разберутся… А ты что? Лозунгами стал кидаться из прошлой экзистенции: «От-е-е-ечество в опасности!» Когда в риторике царства такие лозунги появляются, сразу понимаешь, что скоро новая война!
— Наши сограждане, — перебил его Дмитрий, — не знают, что для них лучше. Война или мир, нищета или достаток… Души у них заблудшие.
— Ага! А ты будто знаешь, где эти души заблудились? Знаешь, как вывести их? Ведь ни в какой другой стране нет такой гибельности…
— Да! Я знаю! Царствование — великое и благородное дело. Определено конституцией нашей державы. Цена этого царствования для меня — одиночество. Но я точно знаю, что согражданам нужно. Они как малые дети. Дети, которых мы так и не вскормили. Мы должны их держать за грязные, вонючие пальцы и перепачканные говном рты и учить их, что есть добро, а что есть зло. Учить их тому, что чувствовать и чего хотеть. Им нужна помощь и в том, чтобы мечтать, и в том, чтобы бояться. Сами они не умеют этого. Они мечутся во мгле страданий, бьются о стены безнадежности. Но им повезло! У них есть я! — Он помолчал и добавил: — И вы, святой отец… Мы оба научим их, как любить Родину!
— Чему учить? Окстись, родной! Люди, такие, как наши — пережившие три войны, осиротевшие, обездоленные, — оказавшись на пороге Новой Экзистенции, ищут, и обычно в своем прошлом, какой-то кристаллик, который станет новым светочем. Народ наш все знает, его не надо учить. Кристаллик, вокруг которого можно подсобраться, вот что ему нужно. Вспомни уроки химии, Митя!
— Не было у нас химии в школе, святой отец. Ваша партия предмет химии изъяла из школьной программы как необязательный. Факультатив только был, и то по ограниченым спискам.
— Так, в солевом растворе соль начинает собираться вокруг первого кристалла. — Старик не слышал собеседника, продолжал свою мысль: — И этот кристаллик всегда лежит в прошлом. И мы, обернувшись туда, начинаем думать: кто мы — нация, победившая в Первой Народной белофинской, или нация, остановившая Красную волну, или мы нация святого великомученика Гагарина? Мы ищем кристаллики в прошлом. И в поиске этих кристалликов мы закономерно опускаемся в каменный век. Мы же все люди каменного века. В то время была правда, настоящая правда. И правда была в Боге, даже если эти люди и не ведали о Нем.
— Но каменный век закончился, и не потому, что закончились камни… Человечий же век закончится, потому что закончатся человеки.
— А Господь останется и после человеков…
И, словно устав до смерти от этой эмоциональной чуши, не поднимая головы, он осторожно взял в свои мягкие с виду руки кругляш и внимательно стал его рассматривать в свете низкой венецианской люстры. Блики прыгали по бокам предмета. Небольшое круглое клеймо, как тавро для скотины, — пляшущий человечек, окаймленный непонятными знаками. Это был черный слегка потерявший форму мяч.
Старик — казалось, он страшится чего-то — бережно провел мягкими пальцами по видневшимся бороздкам. Затем нащупал пулевое отверстие, края которого были словно растоплены и расправлены раскаленной иглой. Он вопросительно посмотрел на своего гостя. Тот, не отводя взгляда, медленно кивнул лысеющей головой.
— Ну что ж, пойдем, пожалуй. — Старик тяжело поднялся, опираясь одной рукой о колено, а другой упершись в поясницу. Встав, он вытянул вверх бороду, словно желая сделать себя выше. Крякнул хрипло: — Христос и святой Владимир, простите меня грешного! — И довольно легко пошел к двери.
— Вещи забрать? — спросил Дмитрий.
— Плащ свой захвати, не вернемся сюда. Да и показываться лишний раз тебе здесь совсем бы не надо. — Резко призывно махнул рукой. В жесте его было что-то ленинское.
В этот момент снаружи что-то бухнуло, полоснула короткая автоматная очередь. Раздались глухие матерные перебранки, хриплый смех и кашель. Потом опять выстрелы, и снова бухнуло. Окно под потолком в своде щерилось обломками цветного стекла.
— Никакого спокою нету… Вот ты ходишь тут, президент-император, надё-ё-ёжа… А бесчинства остановить над Святой Церковью не можешь… — Старик покачал головой.
— Владыко, святой отец! Я ж вам всю свободу действий дал! Братству вашему… и моему. — Он выразительно кивнул в сторону прислоненного к величественному столу автомату Калашникова.
— Ладно, забудь, Митя. Ерунда это сейчас. Пойдем уже… — Он сцепил пальцы рук в замок и громко хрустнул ими.
Тут только Дмитрий обратил внимание, что красавица инокиня, проводившая его сюда, все еще стоит у дверей и смотрит в пол, склонив голову. Лицо и руки ее были бледны, лицо с тонкими чертами окаймлено темным платком. Сейчас он дал бы ей не больше двадцати — двадцати пяти лет, но ее неуловимые движения, поза свидетельствовали о том, что у нее нет возраста. Казалось, она обречена оставаться юной монашкой в обрамлении епископских интерьеров. Дмитрий попытался представить, бьется ли пульс под прозрачной кожей этой шеи, но инокиня вдруг произнесла: «Мне уходить, отче?» Иностранный акцент. А голос как хрупкое стекло: малейшая неловкость — разобьется. Она повернулась к Дмитрию и подняла наконец глаза, на ее лице дрожала робкая улыбка. Белые, будто мраморные, зрачки глядели в никуда.
Он сглотнул тугую слюну. Она была слепа. И он не находил в себе сил отвести взгляд от этих глаз.
Епископ остановился, почти невидимо повел рукой, сказал с нежностью: «Ступай с Богом, Наташенька», — и она бесшумно растворилась, склонив голову. Тихо прикрыла тяжелую дверь.
— Да она же слепая! — взволнованно сказал Дмитрий. — Как же она меня сюда довела, даже не споткнулась ни разу? Откуда она у вас? В храме, я имею в виду.
— Наташа моя и глуха, и у нее отсутствуют чувства обоняния, осязания, вкуса. Короче говоря, все пять чувств у этой девочки отсутствуют… Прибилась она к нам, дай бог памяти, сразу после первого навала Красной волны. Тогда ведь из Шестого округа сотни людей только спаслись да к нам прибились. Кричали у входа в храм, просили слезно… А эта просто стояла и смотрела на меня. И такое тепло от нее исходило, что я только ее и прибрал в инокини. Это потом, спустя неделю только, я понял, что не ведомы ей все человеческие чувства совсем. Потеряла она их в одночасье, под волной побывав. Она ведь прямо под волной и была, и не понятно, как выбралась. А все остальные только беженцы, эскаписты.
— Как же она живет? Ведь это же невозможно! — воскликнул гость.
— Она живет шестым чувством, Митя.
— Но ведь их только пять! Только пять чувств существует!
— Есть еще одно чувство, которое Наташе заменяет все остальные.
— И что же это?
— Любовь, Митя, любовь… Но тебе этого не понять, мой дорогой президент-ымператор, прости меня Господи… Ладно! Давай пойдем!
Повернулся круто, повел его в цокольный этаж стилобатной части храма, которая была возведена на месте старого, утраченного основания, там, где находилась церковь Преображения Господня, в зал Церковных Соборов, зал совещаний Священного синода, трапезные палаты, а также технические и служебные помещения. Можно было спуститься на лифте, установленном в колонне храма, но работало только ночное освещение, лифты были обесточены, и поэтому они спустились по лестнице.
— Это настоящее месторасположение старого храма, — тихо проговорил епископ, — так что ошибки с возложением нашего, как его там, черт, прости Господи, Кулуангвы, быть не должно.
— Понятно.
— Я все приготовил.
— Что все? — не понял Дмитрий.
— Увидишь, увидишь.
Они миновали церковь Преображения Господня и вошли в просторную, слабо освещенную комнату. В ней, помпезной, посреди массивного стола стоял по виду небольшой сундучок из чистого золота, великолепной работы, с барельефами по библейским сюжетам: «Несение Креста», «Распятие Христа», «Снятие со Креста», «Оплакивание Христа». Дмитрий невольно загляделся на мерцавшее золотом в тусклом свете ночного освещения произведение искусства.
— Тут наша трапезная, — хмуро сказал священник, — и она ровно в центре старого храма. Того, который взорвали бандиты ваши, чекисты ваши, большевички, жиды. В старую добрую довладимирскую эру прошлой экзистенции.
— А это что? — Дмитрий словно пропустил мимо ушей «бандиты ваши».
Священник протянул руку к сундучку и откуда-то из середины крышки вытащил черный кривой гвоздь с крупной кованной головкой, плоской и неровной. Гвоздь был толщиной с палец и в ладонь длиной.
Повернулся, показал Дмитрию.
— Гвоздь со Креста Господня. — И небрежно бросил святыню на стол. Гвоздь с тяжелым металлическим звуком перекатился несколько раз, чтобы наконец остаться неподвижным на матовой поверхности.
В крышке сундука на месте отсутствующего гвоздя образовалась впадина размером с куриное яйцо.
Старик вытер внезапно вспотевшие ладони о спортивный костюм, тыльной стороной левой руки отер лоб.
— Ну что, давай сюда свое сокровище. — Протянул ладонь. — Знать, пришло время!
— Сокровище это не мое, это наше сокровище! — поправил его Дмитрий, передавая священный мяч.
— Да ладно-ладно! Господь! Царица Небесная! Грехи наши смертные! Ох, прибрал бы Господь и святой Владимир…
Он подрагивающей рукой поднес мяч к сундучку, осторожно и очень медленно вложил в образовавшееся углубление. Мяч превосходно сел в него, будто только и ждал, когда же очутится «дома». В это же мгновение одиноко пробил колокол где-то наверху.
— Полночь, — пробормотал старик и повернулся к своему гостю.
Тот стоял с закрытыми глазами, плечи потрясывались, руки висели безвольно.
Так, каждый в своем страхе, они простояли некоторое время. Священник невольно стал оглядываться по сторонам в надежде увидеть какие-то изменения, прислушивался к пространству, немного наклонив голову и прищурив глаза. Однако ничего ровным счетом не происходило. Стены не рушились, пол не дрожал, потолок не обваливался. Иногда доносились гудки машин: поздние водители спешили по своим новогодним делам. Воздух в трапезной против ожидания как будто стал чище и свежее.
Старик порылся в карманах спортивной куртки, нашел и надел пенсне и машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндевелое окно. Однако рассмотреть за ним что-то было невозможно.
— Пойдем вина церковного выпьем, что ли? — сказал, прислоняясь к холодной каменной стене. Сказал как будто шутя, но за шуткой чувствовалась растерянность. — Или рот чайком с малиной попарим? Как мой дед на Соловках поговаривал. Да, как там, кстати, Володенька-то мой, святой мой, поживает? В добром ли здравии? Володенька-то тоже любил рот со мной попарить в Новопечерском.
— Володенька твой все три последних года после победы над белофиннами пьет и спит, спит и пьет…
Дмитрий присел на край крепкого дубового стола, осторожно погладив провощенную поверхность.
— А-а-а-а, так-то он борется со смертью, — потянул священник. — Самая скучная битва, на которую нас всех вызывают… Да и не имеет значения сейчас. Все уже закончилось. Мы все живы пока, и жить нам долго…
— Мы пока живы — это уже хорошо. И закономерно. И это поддается законам природы. — Дмитрий пожал плечами.
— Да, но вот что удивляет, Митя. На самом деле это не закономерно, понимаешь?
— Что вы имеете в виду, владыко?
— Жизнь, жизнь, мой дорогой. Моя-то жизнь вообще незакономерна, как у любого служителя Господа. Так же как у всех других незакономерно их существование.
— Это очень глубокая философская мысль, — Дмитрий усмехнулся.
— У меня других нет, у меня все мысли философские. Я — служитель Господа! А как можно не философски рассуждать? Ты же понимаешь, мы все живем точно во сне: зачарованные философским сном. И это случайно, все случайно, хотя и по воле Господа.
— И тем не менее все это очень даже закономерно. Мы родились и, значит, должны жить какое-то время, прежде чем…
— А как, ты думаешь, можно сразу… — Священник сбился на мгновение, но продолжил: — Вот смерть — это мгновенный переход или процесс? Когда ты говоришь, что человек умирает, — это мгновение или, может быть, неделя, две, десять?
— Может быть и месяцы, и недели, и дни.
— Годы, Митя, годы человек может служить и умирать, годы преставляться Господу нашему Иисусу Христу. Человек может умирать девяносто лет подряд.
— Поясните.
Дмитрий покачал головой, хрустнули шейные позвонки: направо, налево, как готовящийся к спаррингу боксер.
— Да в том-то и дело, дорогой мой! Человек родился для того, чтобы девяносто лет умирать. Человек, собственно говоря, не живет, он умирает. Он умирает с первого своего вдоха. В первую минуту рождения, прямо в «храме Святых Повитух», ему сообщают: «Поздравляем вас со смертью! Давайте начинать умирать».
— Нет, здесь я с вами, святой отец, не соглашусь. Мне кажется, сначала мы забираемся в гору жизни, побеждаем в любви, войнах и так далее, прежде чем начать с нее спускаться.
— Это то, как ты хочешь понимать, Митя. — Старик вздохнул. — Если говорить физиологически, то да, тогда мы начинаем умирать где-то в пятнадцать лет.
— Почему так рано?
— Ну с пятнадцати лет отдельные функции организма начинают отказывать, как правило, или какой-нибудь орган начинает устаревать, другие с двадцати, а иные с тридцати, некоторые гормоны перестают вырабатываться после тридцати, некоторые после пятидесяти и так далее. То есть при родах в «храме Святых Повитух» старушка такая, цветочек на последнем издыхании — медсестра, акушерка — говорит с придыханием: «Господи! Ребеночек-то у вас какой хороший родился, бойкий такой, славспидя, жрать хочет постоянно, к титьке матери рвется, как кабан к брюкве, ревет, как слон, вес у него, батюшки здравы, аж три пятьсот. — И продолжает чуть не на той же ноте: — И приступил к смерти, поздравляем вас сердечно с этим». Ну что он делает? Он умирает, правильно? Потом наконец перестает умирать, то есть умер: ушел в Царствие Небесное… Благослови его душу, Господи.
— Да вы, владыко, шутник, я даже прослезился! Но мне, если честно, не нравится такая философия.
— Аааа! То-то! Если тебе это не нравится, значит, моя философия верна! Пока ты умираешь, ты живешь, а когда ты перестаешь умирать, это значит, ты уже умер… Всё!
— Печально, конечно, — усмехнулся Дмитрий. — Часто думаешь, так и жизнь прошла!
— Но после смерти смерти нет, — продолжил владыка, не обращая внимание на реплику. — Есть Царствие Небесное. Но не для всех. Для меня — да; ты же, — епископ указал на Дмитрия кривым пальцем, — о своем царствии даже и не думай!
— Кто знает. Что мертво, умереть не может. Так это в Писании?
— Ну да. После смерти смерти нет. Значит, ты умираешь, умираешь. Мы умираем, потихоньку умираем, все еще не умерли, все еще умираем. Нормально. Вот я десять минут назад думал, когда мы мяч в лоно возложили, что мы сразу умрем. Ан нет, мы все еще умираем, сын мой!
— Но, отец, ведь мы до этого жили, развивались! Покорили новую вершину в этом году, выиграли Третью белофинскую войну, остановили Красную волну, может, временно, но остановили, храм ваш защитили от скверны. Да мало ли! Мы развивались, одним словом!
— Митя, знаешь, в чем мы развиваемся? Мы развиваемся… — Старик помолчал, подбирая слова. — … Вот кто такой ты, человек? Ты — трубочка между ртом и анусом, куриной жопкой. Почему тебя терпят земля и небо, и Господь наш, и Царица Небесная, почему ты существуешь меж землей и небом? Потому что ты проводишь их энергии, то есть между землей и небом есть некое сообщение, это сообщение ведется через людей и Бога. Бог проводит те же самые энергии, но Бог сам может перемещаться с земли на небо и назад, а люди проводят вот эти вот какие-то, так сказать, разряды, которые идут с неба в землю. Пока проводишь энергии, живешь, перестаешь проводить — ты не нужен больше. Не нужен ты никому, а главное, не нужен ты больше Господу. Всё, понимаешь? Поэтому вопрос: мы развиваемся или нет? — по крайней мере странен. Но я знаю точно, что развиваются небо и земля, а мы просто проводим эти токи ради Господа нашего, Царицы Небесной и нашего святого Владимира!
— Но кто-то проводит лучше, а кто-то хуже. Кому-то это удается… Мне, например, удается. Удавалось до сегодняшнего дня… — Дмитрий устало потер глаза.
— Гордыня все это твоя! Что ж, может, и правда! С точки зрения Бога нашего, Иисуса Христа, и нашей с ним партии, между прочим, жизнь — это подтверждение твоей нужности, а смерть — абсолютное утверждение твоей никчемности. Это с точки зрения Бога. Поэтому ты все еще умираешь. Мы все еще умираем.
— Тогда мы исходим из того, что лишних людей в принципе не существует. И спасибо Всевышнему и партии, что я один из них, а не ботва в огороде.
— Нет, конечно, дорогой ты мой! Потому что небо и земля уберут тебя, если ты не будешь проводить токи эти, они тебя уберут моментально. Поэтому все, кто… — Епископ застыл на несколько мгновений в своих рассуждениях. — У нас, у русских, существует понятие героической смерти. Это необходимая смерть, смерть ради общества, Родины, смерть как подвиг. Но вот вдруг небо и земля забрали тебя, значит, ты просто никому, собственно, не нужен. И подвиг твой ради Родины оказывается полным пшиком. Прости меня, Господи!
— Ну да, ну да. Мы всё это знаем. Сначала мы долго планируем жизнь, планируем свои будущие подвиги, рисуем их красочно в нашем воображении, а потом — раз! — умираем раньше времени. И еще ничего не зная о жизни, уже боимся ее потерять. Короче, всех обманываем.
— Какова же цена лжи? — Епископ потянулся и благочинно зевнул. — Дело ведь не в том, что мы путаем ее с правдой. Опасность в том, что, если долго иметь дело с ложью, совсем забудешь, как выглядит и как звучит правда.
— И что нам остается, владыко?
— Нам придется оставить даже надежду на правду и утешаться лишь сказками. Добрыми ли злыми. Не важно, кто герои в этих сказках. Все, чего мы хотим, — знать, кого винить.
— В этой злой сказке мы будем винить простой мяч? Лучше не придумать!
— Мы как будто спелись с тобой, Митя. В дьяконы тебя возьму к себе, когда Красной волной накроет. Мы же с тобой с самого начала знаем из Святого Писания: эта жизнь не сказка, и никто не выберется отсюда живым. И весело пьяным…
— Вот-вот! По этой причине вы предложили церковного вина выпить? — Дмитрий решил закончить этот странный разговор и уехать поскорее. — Увы, некогда мне — Отчизной править надобно. Да и за рулем я, и не пью совсем, вы же, отец, сами знаете.
— Знаю, милый сын, знаю. Испытать тебя хотел…
— Не пью я с Первой белофинской, с первых прямых императорских выборов, чтобы небо случайно не забрало меня, грешного императора, и рот полон земли не оказался, как поговаривал один мой знакомый, покойный уже. — Он с силой сжал кулаки, чтобы унять дрожь. Почему-то очень душно стало рядом со священником. И надоело пустые речи выслушивать.
— Да шучу, шучу, не напрягайся! Вижу, на больное наступил. А-а-а-а, ты все думаешь, что как только русский народ перестанет пить, так сразу решаться все его проблемы?
— К чему сейчас это выяснять? Завтра будет уже все равно, — устало ответил Дмитрий.
— Поживем — увидим. Пока ничего не произошло, слава Господу нашему Иисусу Христу и Царице Небесной и Партии нашей Свободной Мысли Христа, — тоже устало сказал епископ. — Если хочешь покаяться, расскажи им о своих планах. — Улыбнулся коротко, достал из кармана наручные часы «Победа» на кожаном ремешке, глянул на циферблат, далеко вперед отведя руку.
— Не согрешишь — не покаешься! Сущая правда. — Поддержал Дмитрий. — Но надо ехать!
— Да, третий час уж. Провозились мы с тобой, припозднились донельзя… Давно я так не сквернословил. Скоро служба уже, а еще охальников надо пойти пострелять! Слышь, как обозначились опять… Ну да ничего, охальники подождут немного, для них патронов достаточно заготовлено… — Помолчал. — Ладно, давай расходиться, не то вдруг мы с тобой с этого вот момента уже и начали умирать, и это точно не займет больше тройки-четверки дней. Нужно только определиться с любовью перед смертью…
— С любовью? — Дмитрий в недоумении поднял брови.
— Да, с любовью, — твердо сказал епископ. — У меня есть любовь к Господу и к Царице Небесной. А у тебя что же за любовь, Митя? С какой любовью ты готов уйти на Небеси?
— Любовь к Родине, не поверите… — Дмитрий вздернул острый подбородок. — Это последнее, единственное чувство, что ведет меня, как… Наташу.
— Наташу…
Они произнесли это имя одновременно, словно сговорившись, в одной тональности и с одинаковой хрипотцой в голосе.
И в это же самое мгновение услышали громкий металлический треск и густой виолончельный звук. Они оба непроизвольно взглянули на покоящийся в открытом сундучке мяч, от которого в полумраке трапезной начало исходить слабое зеленоватое свечение. Сундук под мячом развалился надвое, и очевидно было, что температура его явно не комнатная, и сделан он явно не из чистого золота. Бронзовая основа была покрыта миллиметровым слоем золотого сплава, который медленно стекал на столешницу, оставляя черный дымящийся контур. Деревянные доски стола начали испускать тонкие струйки дыма. Как если бы дотошный школьник выжигал на них пионерский значок или главный слоган сограждан: «Всегда готов служить Партии Свободной Мысли Христа!»
Оба с минуту в изумлении смотрели на «светопреставление», пока старик не вымолвил шепотом в темноту угла:
— Так и в Евангелии сказано, сын мой Димитрий: «Мнози же буде перви последни и последни перви». Нам ли, грешникам, на сие роптать? Хочешь, благословлю тебя троекратно трехсвятным благословлением? Началось ведь! — Владыко поднял пухлую руку и осенил гостя крестным знамением, шелк спортивного костюма зашелестел, и вышитая пума задвигалась в поиске жертвы. Старик махнул рукой, как бы отгоняя назойливую муху от лица, и отвернулся.
Дмитрий постоял еще совсем немного, пару раз переминаясь с ноги на ногу, потом накинул на плечи свой широкий подсохший уже плащ и повернулся к выходу. Словно по волшебству, из дверей возникла инокиня Наталья и жестом пригласила его следовать за ней.
Уже в подземном паркинге, садясь в машину, он вдруг подумал: «Нам бы ее лишения, может, и вышло бы что-то путное из нас всех. Мир Натальи — вот лучшее для всех нас, если бы мы смогли… Хотя… Может, чем быстрее сгнием, тем быстрее через гной прорастет трава». Отчаянно хлопнул дверцей античного авто, настроил радио на первый канал, покрутив потертую ручку, поправил зеркало заднего вида и вжал педаль газа.
***
Дмитрий выехал из темной автомойки в светящуюся новогодними огнями столицу. Новый год, Великое Православное Рождество и День Партии Свободной Мысли Христа — только в эти дни (после окончательной капитуляции белофиннов) в Первопрестольной разрешали включать уличное освещение после одиннадцати вечера. Всего на два часа. Но это был великий праздник для московитов. Потом он повернул на Пречистенскую набережную и медленно двинулся в первой линии. Время далеко за полночь, поэтому машин в это время было немного. За его спиной огромной белой светящейся льдиной возвышался Храм Христа Спасителя. Полиэтиленовый саркофаг то тут, то там прохлопывал на ветру прозрачными крыльями, сбрасывая налетевший снег и черные хлопья кислотного пепла. Вдали слева виднелась кромка Красной волны, из-за которой время от времени происходили всполохи то яркого зеленого, то бледного голубого света. МосКа жила своей обыденной счастливой жизнью.
«Волга», ГАЗ-24, машина неприметная. Желто-бежевая, как гадкий утенок, которому никогда не стать лебедем. Неприметная, потому как в последние годы машин советского периода на улицах городов становилось все больше и больше. Они выползали из старых гаражей, автосвалок и оврагов. Полировались внимательными к технике хозяевами. Детали двигателей заменялись. Лампочки фар освещения дальнего вида, дворники и радиолы стали дефицитом. Белофинские «саабы» и «шкоды» утрачивали свое преимущество именно по причине нехватки деталей. Да и население не жаловало вражескую технику, даже если она была трофейной.
Дмитрий поехал по знакомому до мышечной памяти маршруту до «дома». Вдруг завертелись строки в уставшем от паскудного дня мозгу:
Мы все ходим под Богом,
У Бога под самым боком,
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
На улице снег с дождем, людей нет, опасно, да и что в центре делать в шестидневные школьные каникулы, до Рождества Господа Иисуса Христа и Нового года? Хотя на праздники в городе МосКа всегда снимали военное положение и это, собственно, и было праздником для всего честного народа. Только вот народ не покупался на уличные гуляния — в домах-клетках поспокойней, и финскую тушенку отъедать надо до конца, пока после праздников все не отмел назад взвод Стандартной Очистки Продуктов, СтандОчПро. И надо сказать, что москвичи так никогда и не приняли новое название Москвы — МосКа. Бред какой-то! Москва и все ей принадлежащее окружение в их головах так и оставалось Москвой. Понаехали тут со своими названиями!
Дмитрий добавил газу, машину немного тряхнуло.
«Волга», Газ-24, ему досталась от родителей, поработавших в свое время в Анголе врачами-пропагандистами. Он думал, как давно, не в пример пресловутому Брежневу, сам не садился за руль «Волги». И сейчас ведь без прав выехал — где ж их теперь разыскать. А если спросишь, сразу Служба Охраны на рога встанет. Да и не было их никогда, прав-то. Те, что получил в свое время у питерских ментов за штуку «дерева» и держал как раритет, показывая своим псевдодрузьям при полуделовых встречах, вряд ли сработали бы сейчас у Гвардии Христовой при проверке документов.
Небо было выцветшее, бледно-серое и только вдалеке тронутое белой-розовой рябью облаков, словно бы подсвеченных витринами московских улиц. Начиналось утро, скучное, как всякое разочарование.
В старой радиоле заиграл Вагнер в исполнении Ансамбля песни и пляски Русского войска имени Александрова, АППРУВО. Он вдруг поймал себя на мысли, что именно после прослушивания этого произведения три года назад в фельдмаршалском бункере под Подольском, как раз во время Третьей белофинской, у него возникло непреодолимое желание напасть еще и на Польшу, так же как в прошлой экзистенции у генерал-фельдмаршала Вуди Аллена. И, до кучи, заболеть сифилисом, чтобы стать похожим на Ницше. Он улыбнулся и даже хохотнул своим мыслям.
Внезапно в машине что-то захлюпало. Двигатель подавился хрипом старика курильщика, и «Волга», прочапав с десяток метров, встала как вкопанная. Дмитрий чертыхнулся и попробовал еще раз завести двигатель. Машина не издала ни звука.
Он пошарил по карманам, чертыхнулся еще раз — ни копейки денег, ни телефона. «Волга встала у Москвы, — усмехнулся он. — Как же добираться сейчас? В предновогоднюю неделю не поймаешь никого до Ново-Огарево, деньги вперед берут». Тем более с его видочком потрепанного советского интеллигента. Он снова проверил бардачок — пусто. Только кусок тряпки для протирки стекла.
Дмитрий вышел из салона: может быть, на воздухе придет здравая идея. Он вглядывался в ночной город. Казалось, все было тем же — темнота позднего часа, рассеянная множеством огней, легкий снег и оттиск неба над головой. И вместе с тем эта МосКа была не похожа на ту МосКу, которая втолкнула его в храм несколько часов назад. На западе лиловый и багровый сменялись золотом рекламы. Под ногами чуть слышно хрустел тонкий слабый лед. Сырой снег, валивший поздним вечером, уже вчерашним, прихватило к середине ночи тонкой стеклянной мембраной. Вдали светился Кремль. Спасская башня, бережно обмотанная плотным слоем полиэтиленовой пленки неделю спустя после Дня Черного Неба, как и Храм Христа Спасителя, подсвечивалась изнутри мощными лампами с различными фильтрами и была похожа на белый айсберг с красной звездой на вершине. «Сахарный мой», — с тоской и любовью в сердце подумал Дмитрий, глядя на Кремль, слегка наклонив голову.
И вдруг он почувствовал себя совершенно и беспричинно расслабленным. Счастье казалось незаконным. С удовольствием потянулся и еще раз втянул воздух. Да, действительно, дышать стало не то что легче, просто многие запахи исчезли. Словно бы воздух стал дистиллированным, как мертвая вода. Больше не несло экскрементами, улетучились обычные московские запахи улиц, бензина, сигаретного дыма, перегара вокзальных площадей, тухлый запах метро. Трупный запах, хотя после ноябрьской бойни на Болотной почти всех вроде расчистили, еще витал в переулках, но стал гораздо слабее.
Дмитрий решил попытать удачи еще раз: ввалился в салон машины, выжимая газ и проворачивая множество раз ключ зажигания. Без толку!
Он сидел в заглохшей машине, положа руки на руль, прислушиваясь к звукам ночного города. Легкий снег ложился на ветровое стекло и, медленно тая, каплями стекал вниз. Еще раз втянул воздух, наполнил легкие через открытое окно, ощутив небывалую свежесть, и вдруг почувствовал потуги в мочевом пузыре.
Закрыв окно и осторожно ступая начищенными ботинками по хрустящему насту, снова выбрался наружу из водительского сиденья и огляделся, погладил ласково теплый капот. Почему-то подумалось: «Игрушки не умирают, в них просто перестают играть, — ухмыльнулся. — Поэтому они и ломаются…» Присел на этот теплый капот «Волги», как на какой-нибудь камень в Греции. Впрочем, Греции нет уже — осозналось: часть под Красной волной, часть стала территорией Финляндии. Он повел плечами, оторвал зад от нагретого и подошел к балюстраде набережной.
«Как же теперь добраться? Сейчас ведь ни один черт в Ново-Огарево не поедет, — снова подумал. — Да и денег у меня ни одного тенге нет, — усмехнулся. — Хотя зачем они мне? Зачем они нам всем?»
Он расстегнул ширинку и, глядя на бывшее Британское консульство, ныне Народный штаб борьбы с Красной волной, НарШтабКрасВол, стал медленно мочиться, механически выводя иероглифами фразу на свежем снегу четкими короткими струями:
佛 — 杀
«Нормально так у меня простата работает, — подумал он, — всем бы такое здоровье! — Штрих какой ровный, филигранный, как кисть самурая! Чихну я еще на вашей могиле, сволочи, мрази финские! Ничего сегодня не случилось и не случится никогда. Бред все это, дорогой товарищ епископ!»
Он прицельно поставил тире в нужном месте фразы, встряхнул изрядно увеличенный уколами член, и начал застегивать молнию, но на мгновение остановился, когда позади него заскрипели, будто металл по стеклу, тормоза. Остановилась машина.
Обернувшись, он увидел, что, едва не врезавшись в его «Волгу», юзом затормозила бледная «копейка», разбитая по всем четырем углам и изрядно проржавевшая по низу дверей и по крыльям.
Из машины вывалились, посмеиваясь и то и дело сплевывая на землю коричневую табачную слюну, четверо молодых изрядно подвыпивших парней. Все бритые наголо, в коротких черных кожаных куртках и спортивных штанах. У двоих из них в руках были бейсбольные биты.
— Эй, дед, есть закурить? — спросил костлявый хлыщ, с мокрым ртом и бессмысленной улыбкой, открывающей не только длинные лошадиные зубы, но и бледные нездоровые десны. Он склонил голову на плечо, поводя ее вправо-влево.
Дмитрий молчал, с некоторой оторопью и непониманием оглядывая братву. Он не знал, как с ними разговаривать, поэтому избрал молчание как единственно правильную тактику, столь комфортную для него во многих других сложных ситуациях: что в международных отношениях, что в личных. Единственное подумал: «Не дострелял вас, мерзот, владыка своими трассерами…» На своем веку он много повидал таких. Тупых, несчастных, никогда ни за что не боровшихся. Они способны только хамски пользоваться правами и свободами. Которые, кстати, он сам так щедро отвалил им сразу после первой победы с ненавистными белофиннами. Но которые завоевали для них совсем другие люди.
— Ты чо, сука, молчишь? Почему, блядина, ссышь в великую реку Московию, старый мудак?! Ты жид, что ли, в великую русскую реку ссать?
— Чо очки нацепил, дед? Да он точняком слепошарый жид, Костян! Зацени его очки и усики метросексуальные, как его, педерастические! Пидор гнойный! Да он же пи-и-и-идор!
— Костян, смотри сюдой, чо он тут написал, с-с-сука!
Он по слогам, медленно, и с ужасным акцентом стал читать ярко-желтые от мультивитаминов иероглифы, выписанные на снегу: «Встретишь будду — убей будду!»
— Совсем охуел, по ходу, жид!
Тот, кого назвали Костяном, под расстегнутой курткой был одет в черную водолазку, и худая жилистая шея болталась в черепашьей горловине. И можно было рассмотреть странный амулет, висевший поверх водолазки на толстой металлической цепочке, — резиновая игрушка, американский герой комиксов и фильмов по ним, Супермен. Игрушка была изрядно потертая, а цепь, протянутая прямо через отверстие в голове, напоминала о комнате пыток из далекого средневековья.
Костян тоже завелся, сплюнул смачно под ноги Дмитрию.
— Точно, порхатый! На нашу культуру ссышь, на Московию, родную нашу русскую реку, белофинскими буквами! — Он оглянулся на компанию. — Ну, сейчас ты, тварь, тенге и полушками от нас не отделаешься! Придется нам тачками меняться, заберем мы твое корыто. А «копейку» соседу верну! Пошел, как гритца, за батоном, а вернулся со смартфоном!
Все четверо разразились гоготом.
— Ну чо уставился, хуй жидо-белофинский? Давай ключи от своей «Волжанки», жидок! Ну-ка, иди тудой! — заорал его спутник с перебитым носом и указал в направление балюстрады.
Костян шагнул к Дмитрию, немного пошатываясь, но был полон решимости, замахнулся видавшей виды бейсбольной битой.
Дмитрий отшатнулся в сторону, будто испугавшись удара, но в следующее же мгновение он легко перехватил руку в замахе и, потянув ее по траектории движения, тем самым значительно ускорив его, подставил Костяну ногу прямо под колено. Тот охнул от боли и, перевернувшись через голову, приложился бритым затылком к каменной балюстраде. Он лежал неподвижно, тяжело и влажно открывая рот, хлопая полными губами. Водолазка и Супермен на груди залились кровью и юшкой.
Три «скина», оторопев на мгновение, остановились: как этот старый жид, пердун и говновоз, одним приемом угрохал немелкого Костяна? Они поперли вперед, на Дмитрия, словно три кабана к корыту со жратвой, толкаясь плечами и матерясь во всю глотку.
«Старый пердун» спокойно стоял на месте и практически невидимой подсечкой сбил одного нападавшего, да так, что тот полетел под ноги другому, который тоже повалился на покрытый снегом лед. Отпор следовал словно бы автоматически и легко, как заученный долгими тренировками прием дзюдо.
Третий комок мяса продолжал переть на живую мишень и получил бы свое, если бы Костян не пришел вдруг в себя и лежа не пнул строптивого «финно-жидка» сзади под колено.
Дмитрий повалился на землю, хрипло охнув, и тут уж на него обрушился град ударов кулаками и битами по рукам, туловищу, голове. И как он ни укрывался, скрючившись, подбирая ноги к животу и закрывая руками голову, избежать жестокого избиения было невозможно.
Костян тем временем, чувствуя себя как в тумане, вскарабкался на карачки, продержался так с минуту, мотая головой, как бык на корриде, тяжело оперся на здоровое колено, встал на ноги, пошатываясь и хромая, подошел к своим спутникам.
— Нууу, блядь, дай-ка мне эту балду! — процедил задушено сквозь разбитый рот.
Не дожидаясь ответа, он дернул бейсбольную биту из рук товарища и немного вразвалку подошел к лежавшему на мокром асфальте Дмитрию. Слизнув кровь с разбитой губы и хищно прищурившись, пнул его под ребра, перевернул на спину и удовлетворился, что тот еще жив.
Он лежал, раскинув руки по мостовой. Черный вельветовый берет сполз на затылок, обнажив залысину и жидкие спутанные темно-русые волосы. Он быстро, прерывисто дышал. Фальшивые тонкие усы сползли вправо вниз и подергивались при каждом вздохе.
— Может, хватит с него уже, давай тачанку его возьмем, да и харэ?
Костян даже не обернулся. В носу у него почему-то стоял вкус блинчиков с медом, в глазах дергался вертолет на зеленой поляне перед каким-то старинным английским замком. Лицо его исказилось гримасой безлимитного счастья. Он тряхнул головой и сипло заорал:
— Товаристч, товаристч!!! — Замолк и продолжил, немного шепелявя, сквозь кривой разбитый рот: — У вас ус отклеился…
Потом, высоко приподнявшись на носках стоптанных кроссовок, слегка вывернул сухое тело влево и со всего маха, с плеча, с хриплым хэканьем нанес первый страшный удар по голове лежавшего. Вышибленные зубы полетели в горло, и тот втянул их в себя последним вздохом. Нижняя челюсть превратилась в кровавую пульпу. Костян уставился пустыми глазешками на остатки лица. На самом деле лица практически не было. Костян еще раз хэкнул и нанес второй удар. Вскоре крошево мозгов человека с откленным усом разлетелось по талому снегу набережной.
Прежде чем окончательно умереть, Дмитрий произнес неслышно: «Ну вот и все, а воздух то какой свежий…» На верхней губе его возник большой розовый пузырь, дорос до величины воздушного шара — образ детства — и лопнул.
***
Оставив мяч на столе, владыка поднялся из трапезной комнаты алтарного хранилища в верхний, основной, уровень храма. Сквозь витражи окон, сквозь пелену пластиковой завесы пробивался слабый, рассеянный свет московского ночного городского освещения улиц и рекламы Партии Свободной Мысли Христа: «ПАСВОМЫХ СПАСЕТ И СОХРАНИТ ТЕБЯ!»
Храм давно закрыт — время далеко за полночь. Было пусто и холодно, даже не холодно, а как-то необыкновенно свежо. Его всегда поражало величие храма, пусть это и новодел. «Быстро его намолили, и ста лет не прошло», — подумал старик. Запрокинув голову, посмотрел вверх. Христос в куполе, всегда смотревший на него с любовью и неким даже обаянием, сейчас глядел скорее скорбно.
Епископ прошел за алтарь, несколько минут его не было видно, затем он появился с дымящимся кадилом в руках. «Запечатлел бы кто меня в спортивном костюме от “Puma” и с кадилом в руках, — усмехнулся он. — Завтра же во всех газетах стоимость костюма оценили бы в миллион белофинских марок, или, как там сегодня, шесть миллионов двести тысяч тенге. Ну, ничего, сегодня можно. Надо!» Ему вдруг припомнилась фраза, от которой он даже фыркнул: «Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России».
Вновь перед глазами возникла картинка: черный мяч в углублении крышки ларца для хранения гвоздя от Креста Господня, горящий от расплавленного металла черный дубовый стол.
Так, тихо размышляя, он пошел вдоль иконостаса, лишь на мгновение приостановившись у иконы Святой Казанской Божьей Матери, обмахивая все белым легким дымом. Прочел молитву — первую, что пришла ему на ум в этот поздний час: «Господи, если Ты от мира отошел, страшнее этого быть ничего не может для нас. Но Ты милостив, и все будет ладно. Только когда люди к Тебе дорогу забыли, надо дорогу эту нам расчистить! Все будет хорошо, все в Твоих руках, Господи! Мы только исполнители Воли Твоей».
Но что-то было не так в эту минуту в храме, в самом его воздухе. «Что-то не так. Что-то идет не так!» — повторял старик. Он огляделся, близоруко всматриваясь в затененные углы храма. И взгляд у него был безоружный и испуганный, как у всех близоруких людей, снявших очки.
Желтый свет ночного режима освещения ровно лился на лики святых старинных икон, золотое убранство, тяжелые портьеры. Все было, как всегда, чисто, смиренно, но и горделиво одновременно. За стенами дико и страшно кричали отморозки. Ему вдруг припомнился его калашников у стола в кабинете.
Но что же все-таки не так?
Епископ вдруг резко остановился и, подняв кадило на уровень глаз, принюхался к дыму. Он сильно втянул воздух широкими ноздрями. Нижняя губа его выпятилась. Лицо не выказывало в эту минуту никаких эмоций, глаза полузакрыты. Внезапно он отстранился. Перестал чувствовать сладкий запах дыма. Кадило выпало из руки и с тяжелым металлическим грохотом покатилось по каменному полу, как неразорвавшееся ядро, окутывая все вокруг себя дымом.
Он еще несколько мгновений постоял в растерянности, не обращая внимание на дымящееся на полу кадило. Земля — последнее прибежище — уходила из-под ног. С хрипом попытался втянуть в себя воздух с фальцетными всхлипами, чуть не задохнувшись, умолк. Потом плечи его как-то вдруг и сразу опустились, состарив его еще на добрый десяток лет. Он обхватил себя руками и, слегка пошатываясь, побрел к двери. Ввалился в свои покои. Там в мягком свете люстры он подошел к креслу и рухнул в него. Глаза у него, как у больного ворона, стали прикрываться веками.
***
В четвертом часу ночи служитель, хранитель и обходчик храма увидел через приоткрытую дверь кабинета епископа размытый свет. Он тихо подошел к двери, чтобы осторожно прикрыть ее. Владыка часто после обхода храма и традиционного отстрела неверных работал ночами над текстом новой Конституции Великой Церкви, если с утра не было службы или важных встреч. В кабинете звучала музыка. Она нисколько не удивила служителя, так как старик обычно ставил музыкальным фоном песни советских композиторов, в особенности чтил Александру Пахмутову. Служитель подошел к двери и, склонив голову, прислушался. Тихо. Как всегда, осторожно постучал и вопросил низким голосом: «Владыко, доброй ночи желаю Вам». Однако вместо привычного «Спасибо, и тебе так же, иди с Богом» служитель ничего не услышал. Покачав головой, медленно прошел несколько шагов вперед. Потом повернул назад к дверям и в нерешительности проговорил: «Батюшка милостивый…», потом еще раз, еще. Два передних мелких зуба блеснули под усами.
Ответа не было. Тогда он легко приоткрыл тяжелую дубовую дверь и заглянул в просторный кабинет. На него привычно дохнуло запахами ладана, меда, оружейного масла и дорогих духов — и каким-то новым, неприятным, запахом. Так порой пахнет от старой собачьей подстилки. Но запахи были словно бы размытые и исчезающие. Не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше, вошел в комнату.
На рабочем столе епископа стоял потертый двухкассетник «Sony» прошлого века. Из динамиков с легким потрескиванием и шорохом доносилась песня Александры Пахмутовой в исполнении Иосифа Кобзона, который, кстати, был посвящен Партией Свободной Мысли Христа в святые равноапостольные сразу после смерти в боях еще Первой Народной белофинской.
Снова между нами города.
Жизнь нас разлучает, как и прежде.
В небе незнакомая звезда,
Светит, словно памятник надежде.
Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость.
А песни… Довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось.
Посреди комнаты, зацепившись голубой шелковой ризой за роскошную венецианскую люстру, висел епископ. Риза была накинута на шею старика поверх бороды, поэтому подбородок был притянут назад к шее, рот приоткрыт в воинственном оскале, словно самоубийца в последний момент хотел укусить неведомого врага — белую прыгающую пуму на собственном спортивном костюме. «Господи милостивый и святой Владимир! Вот грех-то какой! Руки на себя наложил, да еще и в Храме Господнем!»
От владыки жутко несло старческой, тугой мочой. На то, что в момент суицида его мочевой пузырь освободился, указывало широкое темное пятно на штанинах красного спортивного костюма и небольшая лужа под опрокинутым массивным стулом. В луже покоились две гантели. «Килограмма по полтора каждая», — подумал служитель.
Часы показывали без четверти четыре.
ОДИН
Покойник спать ложится
На белую постель,
В окне легко кружится
Спокойная метель…
Александр Блок
Село было древнее. Русское, татарское, внутреннемонгольское. Наше, одним словом.
Если не считать поселившихся здесь в свое время нескольких семей из ермаковских казаков да дежневских головорезов с большой дороги Гвандонг — Хельсинки, отважных завоевателей Сибири, русских здесь не было. Долгое время его обживала татарва, монголы, китайцы — всякая сволочь. С годами все прибывающее веселое да разудалое казачьё всех вырезало. Просто забили всех «лишних» нагайками, потравили собаками, сгноили на болотах, оставляли привязанными голышом к вековым соснам до страшной смерти в комариный сезон.
В давних веках прошлой экзистенции здесь, конечно, что-то тоже творилось, люди появлялись и исчезали как сами собой, так и по чьему-то приказу. Русские продолжали лезть сюда, под охраной войск и казаков строили для себя заборы с колючей проволокой, крепкие избы-бараки, вышки по периметру. Осваивались. Время шло. Татары были последние в списке «лишних». До Первой Народной белофинской войны они жили относительно спокойно, никто не трогал этих злостных людишек, но вскоре, с первыми победами на фронте, в село однажды ранним утром зашел Первый гвардейский отряд Партии зеленых и шашками вырубил все оставшееся население неверных подчистую. И оно превратилось в поселение для пленных белофиннов, ссыльных господских каторжников, пятой каганатской колонны, а уж позднее, с провозглашением Империи, с прямыми выборами Императора Земли Русской и с окончанием Первой Народной, поселились здесь и вольнонаемные люди, пожелавшие своим героическим трудом соединить четвертой веткой железнодорожной «магистрали тысячелетия» провинцию Гвандон и Сахарную Москву (позднее МосКу). Однако с неожиданным появлением Красной волны стройка остановилась, и с официальным объявлением начала Новой Экзистенции железная дорога поросла черным кислотным мхом всего за какие-то два года.
Добротные бараки, построенные в годы «животворящих репрессий» Великого Движения и ставшие избами для жителей села, стояли как вкопанные в землю ДОТы, долговременные огневые точки, такие же, как на границе Империи с Грецией. Многочисленные надписи ножами о своих покинутых Наташах и Марусях на черных бревнах были сделаны поверх трудноразличимых фраз о неких болезных людях из какого-то 37-го года, видимо, еще добелофинского столетия, дававших знать, что они еще живы. Живы, но хотят умереть как можно скорее.
После Третьей белофинской, когда село стало затухать, гнить на корню и медленно умирать, немногочисленные уже к тому времени жители поехали на фронт по призыву Партии Свободной Мысли Христа, а по большому счету просто с голодухи. Другие же, посноровистей и поушлей, надевали на себя пудовые чугунные кресты и просто под предлогом «великого пилигримства» валили в нейтральную, невоенную зону — Арамею, Ичкерию, Персию, Оман, Катар.
Было легко, было просто — взял и пошел по миру с котомкой. Зрачок на границах, лицо и пальчики сканируют на каждой перевалочной пограничной станции. По зрачку определяли сразу, кто ты — арамей, татарва, жид, ичкерец и так далее. Раз! — что-то в глазу блеснуло, сладким холодком пробралось в мозг, хлопок по плечу: молодец! — иди свободно гулять по миру. В Империи существовал «безвиз». Хочешь валить — вали! «Без тебя большевики обойдутся!» На границе каждому выдавали, выводя из стойбища, по двугорбому верблюду и по пластиковому стакану со святой водой.
***
Михаил вышел в сенцы и тут же поскользнулся, налетев грудью на косяк. Упала с головы шапка-«пидорка». Выругался: «Блядство какое-то!» На полу тонко блестел черный ледок. «Воду-то я сам заносил вчерась, раззява…» Постоял немного, приходя в себя.
Запахнул на голой сухой груди куфайку. В деревянной кадке, стоявшей на лавке, культями двух обрубков пальцев пробил лёдку, зачерпнул старым алюминиевым половником ледяной воды, глотнул и закашлялся. Вода — свежая, хрусткая, с послевкусием летних солений: капусты, грибов и огурцов — свела скулы. «Водица хороша-а-а…»
Михаил не оборачиваясь толкнул ногой дверцу сенцов, обитую коричневым дерматином, затопал с крыльца во двор по наметенному за ночь тонкому слою снега. Дверь за спиной чмокнула поцелуем.
Двор был неказист, стар, чёрен, кривобок в каждом углу, как и изба. Слева кособочился пристроенный впритык хлев, неаккуратно сложена поленница, поодаль стоял сенник с проломившейся крышей — без сена, но прикрытый двумя кусками ржавого листового железа. Неподалеку чернел маленький свинарник, в котором сейчас хрюкал в ожидании пойла худой хряк. По правую руку вросла в землю баня с закопченными окнами, присыпанная по углам снегом для сохранения тепла.
Посредине двора бил хвостом по мерзлой земле Рыжик, он же Рыжуха — дворняга, каких поискать! Тяжелая кованая, почти морская, якорная цепь тянулась в маленькую корявую будку, что стояла у дверей в огород. Дверей, вообще-то, как таковых не было — только покосившиеся столбы с прикрученной к ним алюминиевой проволокой, четыре корявых жерди.
Михаил достал смятую пачку «Святой Астры» из кармана куфайки, привычным движением ввинтил сигарету в угол щербатого рта, затянулся глубоко, ожидая кашля с последующей прочисткой легких. А кашлял он знатно, на всю деревню! Так вулкан, с раскатистым ревом извергнув из жерла тонны раскаленной лавы и базальтовых глыб, успокаивается на время, до следующего извержения.
«Всю внутрянку себе выкашляшь, повыхаркашь! Смолишь и смолишь, хромая скотина!» — это традиционное утреннее бабье.
Хромой скотиной она называла его неслучайно. На Третью белофинскую Михаила призвали, хоть и был он уже шестидесяти восьми лет и с ранением. Впрочем, возраст в это время уже перестали определять, так как сдвиги во времени в разные стороны происходили не только с предметами, но и людьми. Кто-то умирал в младенчестве, но с лицом столетнего старика, а кто-то, оставаясь внешне старым, превращался в подростка. Во времена Великого Движения призывали всех без разбору, а он был призван в первых рядах, потому как прошел и Первую и Вторую от первого до последнего дня. Призвали, правда, в обозные войска. В войсках этих, обозных, задача его была, находясь в охране концентрационного лагеря для белофиннов «Им. Дорогого Товарища Дмитрия», «ДТД», численностью, между прочим, 32 652 человека, развозить экскременты заключенных из выгребных ям на местные кукурузные поля в качестве натуральных органических удобрений.
«Лучшего навоза, чем человечий, я в жизни ни видывал!» — рассказывал позже Михаил своим односельчанам с видом знатока органических удобрений. Зимой 1-го года в суровые финские морозы он провалился в выгребную яму в поселке Ленино, сломал себе ногу и был грубо и неаккуратно прооперирован пленным чехом по имени Чех. Нога срослась, но как-то кособоко. По причине ковыляния и припадания на ногу Михаил был комиссован подчистую и не попал под всю ту раздачу, что белофинны устроили под Кенигсбергом зимой 2-го года. «Вот свезло мужчинке!» — вслед ему шептали деревенские бабы.
***
Морозный воздух свежо прошел в легкие. Михаил выдохнул облако сизого дыма, смешавшегося с паркóм. Сигаретный дым не дал знакомого терпкого вкуса. Никакого вкуса. Он затянулся еще раз, стараясь не выпускать дым как можно дольше из легких. Голова немного прочистилась, никотин и стронций-90 подействовали, но дым по-прежнему был безвкусным. Старик поднес сигарету к самому носу, уже покрасневшему от мороза — дым не имел и запаха горящего табака. С кончика носа упала тягучая капля и почти загасила огонек сигареты.
В несколько затяжек Михаил прикончил бычок. Подумал: «Не накурился». Как в армии, вспомнил он, еще до войны, когда в полной темноте, в ночи, курили на шконках, пока спал комвзвода Маменгалиев — одной сигареты не хватало: глаза не видели дыма, и не приходило никак наслаждение от курения.
Он вытащил вторую сигарету, ввинтил в угол рта, жадно поджег, задвигал впалыми щеками, раскуривая, и так же, в несколько затяжек, высосал ее, надеясь почувствовать знакомый запах и вкус. Холодный, чистый до стерильности и совершенно безвкусный воздух проходил глубоко в легкие, смешиваясь с дымом сигареты, согревал грудь.
«Поросю задать надоть комбикорму, личоли», — подумал, почесываясь. Старик двинулся к амбарушку, навалил в ведро, до половины, комбикорма, залил водой с осколками тонкого льда и, толкнув плечом низкую дверь, завалился в крохотный свинарник. Там было теплее, чем снаружи, он даже чувствовал это тепло кожей. В углу горела маленькая керосиновая лампа, но не выжигала воздух. Боров дружелюбно хрюкал над двумя корытами-комягами — для воды и для корма, — ритмично кивая башкой. Михаил вывалил корм в оба корыта, отталкивая сухой рукой суетящегося хряка: «Ну, будя, будя…»
Было все как всегда, как каждое божье утро. Но в свинарнике не пахло свинарником, не пахло говном и мочой хряка. Воздух был стерильно свеж.
Дед вышел из темноты, сощурившись на дневной свет. Прикрыл глаза черной ладонью. Снег вокруг был утоптан, повсюду виднелись желтые собачьи иероглифы. Михаил насупился бровями, как бы собирая внутри себя знания, полученные в вечерней школе китайского языка имени товарища Си, куда в свое время сгоняли все население села, «всем табуном», и прочитал обычную утреннею «проповедь» от Рыжухи.
家长 ‒ 杀
«Встретишь родителей — убей родителей», — прочитал, шевеля губами, по складам.
Хмыкнув, он подошел к дворняге и потрепал ее загривок и шею, вытащил из-за пазухи краюху лежалого черного хлеба с прилипшими сигаретными крошками. Собака понюхала, чихнула и отвернулась. Михаил отвязал тяжелую цепь от ошейника. На тракторные колеса зимой наматывали такие цепи, чтобы не пробуксовывало. Рыжуха же едва-едва могла носить эти вериги, все подгибая голову к земле, и поэтому вечно смотрела на людей исподлобья.
Почувствовав свободу в коие-то веки, собака резко отскочила в сторону — как-то боком, подволакивая лапу, — и упала с тихим скулежем; тело дергалось, будто через него прошел электрический ток. Из пасти повалила желтая пена, струйками ярко-желтой мочи окрасился утрамбованный снег под брюхом, когти собаки скребли плотный наст. Раздался высокий тоскливый стон.
Михаил даже не успел приподняться с корточек. Отпрянул в полном изумлении с открытым щербатым ртом. Плюхнулся на тощий зад и, быстро перебирая ногами, как раненый кузнечик, отполз на пару метров от бьющейся в конвульсиях собаки.
Немного успокоившись через несколько минут, он на карачках подполз к Рыжухе и двинул тушу собаки носом валенка. Животное осталось неподвижным. Тогда он взял собаку за загривок и поднял голову над землей. Глаза выпучились, зрачки закатились, и от зверского оскала Михаила передернуло, как с хорошего похмелья.
Он посидел еще немного, а когда холод проник сквозь портки, поднялся и пошел в черный перекошенный сарай, вынес из темноты короткую штыковую лопату. Со вздохом он взял Рыжуху, еще теплую, за задние лапы и поволок через покривившиеся ворота в огород. Холод сквозь старый ватник пробирал до костей, и, чтобы не выпустить остатки тепла, Михаил одной рукой поддерживал прожженную полу, мелко при этом семеня. Снег твердый, утоптанный, со следами ссаки и поросячьего говна, обдувался тонкой порошей. На минуту остановившись около забора, сложенного из речных каменных плиток, он с силой ударил лопатой в снег. Та ответила стальным звоном: земля промерзла до основания. Черенок у металлического основания лопаты с хрустом переломился. Михаил отбросил инструмент в сторону, громко крякнув, снова подхватил Рыжуху за задние лапы и прошел через весь огород, скрипя катанками. Остановился в конце огорода, у забора, и, быстро перекрестившись, с сиплым выдохом забросил собаку в ров, заполненный прошлогодней картофельной ботвой, сухой травой и снегом. «Весной закопаю!» — сказал вслух. Поднял плечи, запрокинул седую лысеющую голову, посмотрел в белесое небо. «Эх, жизнь дурная… — Вздохнул. — Идет-идет и на тебе: кончается. Даже вот собачья жизнь». Он присел на корточки, долго глядел молча в овраг, где сквозь тяжелый снег проглядывала сухая осенняя трава и где валялась теперь перекрученная туша Рыжухи.
Вообще он больше любил весеннюю траву: она была беззащитна, зеленела нежными побегами, готовилась к лету, к совокуплению с пчелами, ничего не понимала и радовалась неизвестно чему, а эта уже что-то знала, до чего-то доросла и переставала быть просто травой. Она ожесточалась, деревенела, колола, резала руки. Еще немного — и обернулась бы насильником, карателем. Стебли репейника, татарника, зверобоя делались твердыми и ломкими, как замерзший шифер, целый лес репьев вырастал в овраге за огородишком, сухими бодылями торчали пиканы, свирбига и татарник, прорывали сугробы снега. Это были почти деревья, дожившие до главного знания, но одеревенение их означало смерть. Другой ценой понять главное было нельзя.
Весной Михаил выжигал сухую траву. С восхищением смотрел, как колышется огонь по оврагу, и надеялся, что трава сдохнет. Сдохнет — и никогда больше не взойдет. Но та пробивалась каждую весну и со все большим рвением заполоняла огородишко. Он попытался вспомнить, как пах весенний дым травы, но не смог… Раньше он любил весну. Возможно, даже из-за этого дыма. Мир как бы наполнялся радостью и надеждой. Но последние годы весна означала для него одиночество и тоску. Лето — вонь и гнус. Зима — холод и глупые послания Рыжухи мочой на снегу о смысле жизни.
Время потеряло весь свой и вообще безотчетный смысл.
***
Он вернулся в избу, по дороге долго пытаясь прокашлять легкие после трех сигарет «Святой Астры», явские, которые он так и не почувствовал. Бормотал что-то невнятное себе под нос.
В избе колдовала у печки, над маленьким черным чугунком, Марфа, жена Михаила, такая же, как и он, долговязая и сухая. Впавшие, глубоко посаженные глаза, брови домиком сдвинуты к переносице, словно вечно умоляли о прощении. Старуха была одета в серую засаленную ватную жилетку поверх когда-то цветастого, но теперь уже вылинявшего и блеклого платья, белый платок покрывал ее голову .
Михаил потянул натопленный воздух избы костлявым носом, но так и не определил, что готовит старуха. Исподлобья она сурово посмотрела на мужа, поправила платок на голове, из-под которого выбились седые пряди, и со скрежетом утопила чугунок в пасти печи, грохнула заслонкой.
— А я туто-ка… — начал было Михаил с порога.
— О! Чо нюхашь! Нюхалка-то выросла у куряки? Смотритя, куряка пришел! Кашляшь и куришь, харкашь и куришь. Айда, разоболокайся! Застудишь избу-то, не стой стоймя в калидоре.
Дед умолк. Его слегка согнутая в пояснице долговязая фигура в короткой куфайке, плюшевых тонких штанах и низких серых валенках с черными калошами застыла неподвижно в сумраке маленькой сильно натопленной горницы.
Марфа продолжала орудовать возле печи. Вехоткой смахивала угли и пепел в поганое ведро. Нижняя губа у нее была оттопырена, как у обиженного ребенка.
— Ну, чо смотришь, как комар на ляжку! Да и разоболокайся-то в сенках, сюда мусор не неси! Подит-ко взопрел в своих ремках? Все остынет у меня, одни ополоски останутся, пока ты, полоротый, стоишь там в сенках! Там в сенках и разоболокайся. И лисапед Володькин не урони!
Марфа была что та норовистая лошадь: если уж понесет, так понесет — хрен остановишь. И на язык остра: как говорится, не ножа бойся, а бабьего языка.
— Че-т доброе седня кашеваришь? Не вонят твой пейзан как всегда. — Дружелюбно, примирительно проговорил он в ответ, поглядывая на сухую спину старухи, орудующей у печи.
Супом «пейзан» материну похлебку называл сын Володька, вернувшись после второго успешного похода на Париж Первой Красноказаческой стрелецкой механизированной бригады имени святого Владимира.
— Ничо, оголодашь — все съешь. Нууу, как тебя ухватом-то! — Она махнула на него тряпкой, но без обиды или злости. — Иди исть!
Он снял калоши с валенок и шаркающей походкой проковылял через кухню.
— Рыжуха издохла, — пробухтел он, крякая и садясь за печной угол.
— Как издохла?! — Марфа отбросила в угол ухват, всплеснула руками и уставилась на старика.
— Да вот так. Я ее отпустил с цепи побегать, она пару шагов отошла, пала наземь, ногами как давай дрыгать, пена пошла, и все! Тут же и окочурилась!
— Господь, святой Владимир, спаси меня грешную! Как же жизня-то ее преставилась так быстро после стольких мук!
— Да уж, — потянул Михаил.
— Куда подевал-то ее? Схоронил ли?
— Да бросил в овраг, в Шигелю, в бурьян, земля наскрозь промерзла, чуть отойдет, прогреется, тогда закопаю, если другие собаки не сожрут, да чо да.
— Не по-людски как-то, — засокрушалась Марфа, тяжело села на табуретку у печи и уронила руки меж колен. — Да где другие-то? Никакой животины, кроме нашей, в деревне нет, сам ведь знаешь. Все разбежались или подохли. Гиблое место стало. Говарила ведь я тебе, старый, уезжать надо было, когда все съехали. Ой-ёй-ёюшки, чо деется. Рыжка моя, лапа моя! — И она вдруг заплакала, опустив голову на руки.
Это была правда. Во всей деревне под названием Шигили остались только они вдвоем. Из семнадцати дворов бывшего Ермаковского, а позднее Финлаговского поселения и еще дюжины других, заново отстроенных в постбелофинское время, домов только их изба стояла живой. Все другие смотрели на темный лес вокруг, холмы с березняком да ельником черными пустыми глазницами окон.
Рыжуха была последней собакой на всю округу, иногда она гнетуще выла по утрам на исчезающую белесую луну.
«Вот волчья порода», — приговаривал каждое утро Михаил, сплевывая и направляясь к сараюхе кормить порося.
Рыжики и Рыжухи десятилетиями рождали себе подобных, вечно злых и вечно голодных, кривоногих зверенышей, которые в следующих поколениях, попересовокупившись друг с другом, производили на свет еще более ублюдочное потомство. Рыжуха часто съедала своих щенков, если дед с бабкой не успевали раздать их по соседям и знакомым.
Рыжуха, кстати, была с глазами персидской княжны — болонки. В былые времена Михаил со смехом рассказывал собутыльникам случай из Третьей белофинской. Один его друган-однополчанин служил денщиком у легендарного генерал-адьютанта саперных войск Алексея Потапова, у которого была болонка, сожравшая впоследствии в гневе и голоде своего вдрызг пьяного папочку. После он трепал Рыжуху за ухо и говорил: «Ты вот дворняга, а тоже своих щенков сожрала, значит, благородных кровей!»
Но собачье племя Шигилей так и продолжало вступать в инцест, как, впрочем, и все остальные здешние животные, включая людей, из поколения в поколение женившихся на своих родственниках.
Порой появлялись на свет умные и дружелюбные псы — один-два на десятки других, — но они уничтожались немедленно или собственной матерью, непонятно как сразу определявшей их нормальность, или всем злобным братством.
Брошенные хозяевами, покинувшими свои дома, собаки принялись друг за друга. В конце концов остался в живых один самый злобный и страшный урод с оборванными ушами и широкой в шрамах грудью. Его, последнего рыжего ублюдка деревни Шигили, Михаил застрелил в глаз одиночным выстрелом из пулемета Дегтярева, когда пес набросился на их единственную козу, источник литра молока в день, что было добрым подспорьем для стариков.
Потом осталась только Рыжуха — возможно, благодаря цепи, на которой сидела. Часто, посматривая на собаку с крыльца сквозь табачный дым, Михаил своим заскорузлым умом приходил к мысли о том, что и людишки в Шигилях пошли по такому же пути. По сути, в деревне жили только две семьи, которые на протяжении многих десятилетий, если уже не столетий, переженились друг на друге множество раз, так что на свадьбах, когда все приглашенные: родители, друзья брата жениха, свидетели со стороны жениха и невесты, даже сами жених с невестой выглядели как братья и сестры.
Мужчины были сухие, долговязые, плоские, с приплюснутыми подбородком и лбом, словно находились долгое время между губ струбцины. Длинные, почти до колен, руки заканчивались крупными «клешнями», которые выдавали принадлежность их владельцев к поколениям людей, работавших физически большую часть жизни.
Михаил вспоминал свою бабку Катерину, которая частенько с гордостью говаривала: «Физицецку-то работу я с двенадцати лет робить стала». Он сам начал работать с тринадцати — таскал на плечах тяжеленные ящики с луком в совхозной заготконторе. Потом, когда тракторы и комбайны в третий год Новой Экзистенции были благополучно заменены на лошадей, быков и коров, а позже на людскую тягу, он бегал за плугом или сноповязкой и без устали хлестал спины животных, а позднее пленных белофиннов, длинной и упругой ивовой веткой. Приходил домой и хвастался отцу первыми мозолями. Отец хмыкал, советовал, чтобы быстро зажило, помочиться на них, пока молодой (стариковская моча не помогает, как в Святом Писании было поведано).
На свадьбах пили и танцевали. Как и на всех других, впрочем, мероприятиях — днях рождения, похоронах и, конечно, дружбах. Танцы были удивительно похожими: бабы молча ходили кругами, положив руки друг другу на плечи, и пели, а мужики в середине круга делали движения ногами, словно пинали кого-то, с хэканьем, со всей силы.
Бабьи свадебные песни были без слов и как будто без мотива или с мотивом настолько сложным, что непривычное ухо не могло его уловить. Случайному трезвому гостю на свадьбе невозможно было понять, ведет ли каждый свою отдельную сольную песню потому, что не слышит других и не хочет подстраиваться, или потому, что так принято. Но нет! Бабы слышали друг друга, иногда в плетении голосов возникало что-то похожее на диалог — одна вдруг делала паузу, другая подхватывала, но уловить слова было невозможно. Ритм тоже либо отсутствовал, либо был слишком сложен и разнообразен, как и дробь кирзовых сапог танцующих в центре круга мужиков. Бабы иногда мычали, вытягивая шеи, напрягая пальцы рук, сложенных на плечах своих впереди стоявших подруг, и глядя на невесту и жениха. Точнее, смотрели они все в одну сторону и как будто даже в одну точку: на ширинку жениха. Бывало, уже совсем стемнело в Шигилях, а свадьба все не расходилась: стон песни стихал, прерывался, мужики чистили голенища сапог рукавами потертых пиджаков, певицы же степенно откашливались и сморкались в подол, но начинали через минуту ровно с той же ноты, на которой остановились.
Да, свадьбы, похороны и дружбы были главным развлечением села. Дружбой называли всеобщую сходку мужиков на «пóмочь» — распил и колку дров каждому деревенскому двору. Ручная бензопила «Дружба» была в собственности только Ивана Перевышина. Инструмент переходил в семье Перевышиных от отца к сыну, от сына к внукам. Иванами называли у них всех мужчин.
Мужики собирались, пилили по очереди маркие белизной березовые стволы, кололи их на поленья колунами, складывали в поленницы. А потом плотно выпивали до самого позднего вечера. Бабы же с начала пьянки ставили бензопилу «Дружба» в центр круга на поляне и танцевали с песнями, как на свадьбах. К вечеру улица сипла, кашляла, отхаркивалась и вздыхала. Стук коровьих копыт, шлепанье, трубное сморкание, тяжелое дыхание, смех заполняли воздух, вибрируя в нем. И мошкара стояла столбом в лучах закатного солнца.
«Завтра вёдро будет, славспидя», — глядя на эту «столбовую» мошкару, говорила Марфа и уходила в загон доить корову. Потом они оба, Марфа и Михаил, сидели на дощатой скамейке и смотрели, как солнце, валясь за противоположный берег Шигили, выжигает на свежескошенном поле шипящую кровавую рану. Михаил философски размышлял: «А бабам оно что? Конечно, им проще! Они же вообще ничего не понимают, что нам всем умирать потом, и все такое. Просто поют, танцуют и пьют вино. Заебись, блядь, устроились…»
В те годы он еще работал в районной больнице и был трезв чаще, чем пьян. Медбратствовал в палатах доходяг, умирающих шигилинцев. Больница отвращала своими запахами: там кормили ужасной едой, там умирали. Собственно, оставались в больнице те, за кем не могли устроить домашнего ухода, — страшные одиночки, никому не нужная, неряшливая старость. В больнице было, пожалуй, даже интересно. В умирающих что-то теплилось, а в мертвых — ничего, и это наводило, хочешь не хочешь, на мысль о душе.
Михаил насмотрелся на умирающих, и его юношеское презрение к смерти несколько поколебалось. Он, молодой, дерзкий пацан, думал, что принимать в расчет смерть вообще не стоит, что она не его дело. Теперь он понимал: в жизни большинства — скажем, девяти десятых — она вообще была единственным событием, главней рождения, ибо в рождении ничего от нас не зависит. И умирать лучше всего не с гордо поднятой головой — в этом бывает ужасное хамство, — а с покорным сознанием неприятной работы, которую надо исполнить. Кичиться совершенно нечем. Достоинство не в том, чтобы гордиться своей смелостью перед лицом смерти, а в том, чтобы сделать все абсолютно естественно.
Простые шигилинцы в родной больнице умирали некрасивей всего: в истерике, в озлоблении, в непрерывных капризах, ибо у них не было никаких механизмов защиты от страха. Тише всего умирала сельская интеллигенция: учителя, бухгалтера, партийные работники и руководители колхоза, старики из бывших дежневских и ермаковских казаков, сохранившие веру в святого Владимира. Легче все-таки было тем, у чьей постели кто-то сидел. Вообще же в районной больнице Шигелей умирали довольно часто, и Михаил уже тогда понял, что от медицины, в сущности, толку мало. Ерунда сама пройдет, а прочее неизлечимо. Больница нужна была не больному, а родственникам, получавшим право думать, что они сделали всё, что могли.
В больнице было хорошо и, кроме всего прочего, доходно. Михаил нес в дом что ни попадя: от мази Вишневского до шприцев и марли. Тенге не брал — деньги после начала Новой Экзистенции перестали иметь свое значение. Все уже давно стало в товарообмене. Мазь Вишневского хорошо менялась на дрова или сено. Из марли мужики делали бредни, ходили по Шигиле, выгребали остатки рыбы, не гнушались и мальком. Мальков меняли на птенцов гусей и уток, мальками этих птиц и кормили. Уток и гусей, уже выращенных, меняли на сено. Сено потом на яйца. И так далее.
Дом был полная чаша. Живи — не тужи. Тогда же родился Володька, следом — Наташка. Обваленного на них детского пособия от Партии Свободной Мысли Христа по 16 тенге в месяц на каждого вполне хватало на содержание всей семьи. В Шигилях же стали входить в оборот собственные деньги — перламутровые пуговицы. Дело в том, что во время Великой старинной революции в Шигилях существовал завод по производству пуговиц из ракушек, несметных в то время в реке Шигили. Со временем все ракушки из реки были выработаны, новые не завелись, а какая-то там война с какими-то немцами остановила производство, и закрылся завод вовсе. Но вот незадолго до Первой белофинской пацаньё деревенское в поисках приключений нашло заброшенный колодец, в который были свалены тысячи никому не нужных в свое время перламутровых пуговиц разной величины. Зарплату колхозу в то время прекратили платить, да и тем, чем платили (тенге), никто не интересовался. Пуговицы стали замечательной заменой денег в товарообороте не только села, но и всего района.
А потом началась Первая белофинская, и Михаил отправился с первым же призывом и первым же эшелоном добровольцев на Пятый Краснознаменный Степно-Урало-финский фронт. Затем случилась Вторая белофинская. Потом Третья. Мужиков в деревне Шигили не осталось: кто полег в боях, а кто и просто остался жить на теплых завоеванных территориях в качестве военнопленных. Не понятно было, кто эту войну выиграл. Наши трубили вовсю — «Наша победа!» Количество же пленных в некоторых городах превышало местное население. Белофинны же еще указом после Первой Народной разрешили пленным русским мужикам-солдатам выписать из родных деревень своих баб да ребятёшек. Так что к Третьей войне в деревне остались одни старики да калеки да вдовые и незамужние бабы. Нищих в деревне больше не было. Нищими стали все.
А потом стала надвигаться Красная волна.
А потом убогие калеки из шигилинцев стали убивать друг друга за более или менее приличные яловые сапоги. Хотя самим им сапоги эти и не нужны были вовсе.
А потом стали убивать просто так. Всех…
***
— Марфуш, я чот заболел ли, чо ли, нос заложен, не могу разобрать. Плохо чую сёдня. Всё как будто не пахнет совсем. Шибко свежо как-то, ничо не вонят вокруг. Говно по утряни у порося убирал — говно не вонят, сигарету курил — не вонят дым.
— Вот и не вонят, что куришь! Я и говорю снова да ладóм — кашляшь, харкашься по утрам, всего наружу так и прет, а все табак курить надо! Кашляшь и куришь, кашляшь и куришь в тот же раз. Всю пензию прокуришь! — Марфа стояла у печи, выпрастывая ухватом котелок с похлебкой.
— Русскому человеку без табаку никак нельзя, — пробормотал Михаил и взялся за черную от старости алюминиевую ложку. — Вот и похлебка твоя совсем не пахнет… почти. — Он повел носом кверху, как по утрам водила носом на луну Рыжуха.
— Выпей колючего саду, — посоветовала старуха.
Сама же наклонилась к чугунку и принюхалась. Глаза ее внезапно сузились, она схватила с гвоздя половник и, сморщившись, как ребенок, готовящийся принять лекарство, втянула крючковатым носом парок. Два раза хмуро качнула головой, причмокнула. Потом повернулась к старику и сказала:
— Я тоже, пожалуй, колючего саду-то выпью. И вот еще можно колючий сад с медом смешать и в нос закапать, так крестная поговаривала, если нюх потерял после гриппа. Разом все снимат. Ты давеча грипповал, да и я на ногах перенесла. Вот поэтому и не чуем ничего.
Колючим садом назывался роскошный куст алое, который занимал добрую часть одного из подоконников в горнице. На другом подоконнике стояла, накрепко привинченная к доске, тренога для ручного пулемета. На стене между окон висел портрет руки знаменитого придворного художника Михайлы Узикова «Пресвятой Дмитрий-Победитель», где Дмитрий был изображен при всех орденах и с маузером в левой руке. Правая же рука возлежала на отрубленной голове Кэйнеккенна, поверженного президента Белофинляндии.
Окна в этой комнате с наружной стороны, судя по всему, давно не мылись. Но вряд ли кто мог подняться сюда снаружи, снизу. Дом с одной стороны едва ли не нависал над оврагом почти высохшей речки Шигили, создавая иллюзию вплывающей в ущелье баржи. Перед окном можно было стоять часами… Склон же оврага был засажен, как повсюду в окресностях, скучными ветлами — для защиты от половодья и смещения берегов.
— Ну, не знаю, Марфа. Не люблю я этот колючий сад — горький да горло дерет. Я, может, водочки выпью с чаем, а? Водка да чай — в мороз не скучай!
— Алкаш, он и есть алкаш! Водки-то и нету-ка уже, а что есть, так для примочек и настоек! Сам знашь! От болезней!
— Так вот она и приключилася, болезнь-то моя!
— Ко-о-о-лючий са-а-ад, са-а-а-ад колючий тебе лекарство, доходяга убогий, хромая скотина!
— Марфа, латна!!! — Михаил стал выходить из матриархатной покорности и пропетушил голосом свой запрос: — Водка поссорит, водка помирит! Дай громалек-то, помянем Рыжуху!
Марфа даже занервничала: старик никогда не давал ей отлупа на ее правление в доме. Она еще раз пристально оглядела своего мужика. Глаза у того странно бегали — в испуге ли, или в непонимании. Марфа боязливо подумала: «Психом стал! Псих-ля-ля!» Молча повернулась, пошла в закуток за печью.
Здесь, в печном углу, между устьем русской печи и противоположной стеной, шли женские работы. Здесь находились ручные жернова, судная лавка, надблюдники, склад пряжи, что они получили в качестве трофеев от Первой белофинской, крючки для шитья половиков, другая женская всячина (бесплатные, от правительства, финские маструбаторы-вибраторы и презервативы с подогревом). Отделялся угол от остального пространства избы грядкой, под которой подвешивалась кутная занавесь. Мужчины, даже своей семьи, старались не заходить в печной угол, а появление здесь постороннего было недопустимым и расценивалось как оскорбление. Во время сватовства невеста находилась за кутной занавесью, отсюда выходила нарядно одетая во время смотрин, здесь же она ожидала жениха, чтобы ехать в церковь Святого Дмитрия-Императора. Выход невесты из печного кута в красный угол был символом прощания с отчим домом. Отсюда, сразу после первой брачной ночи, ушла дочь Михаила и Марфы, Наташа, и никогда после этого не возвращалась. Так и затерялась в том городе № 132.
Марфа долго шумела и звенела каким-то хламом за занавеской, потом вынесла початую бутылку дмитриевской-императорской, разлива первого года празднования нового императора. Сын Володька привез аж из самой гиены — Паризу! Горлышко заложено тряпицей. Тряпица же освящена в часовне Святого Футболиста Рука Бога Диего Гарсия в городе Чангши.
— Ладно, хромая скотина, давай помянем пса…
***
Нельзя сказать, чтобы они полюбили друг друга когда-то. Их просто притерло существование в конкретном месте. Закон места был прост — если ты не способен любить, постарайся по крайней мере не обидеть.
Знакомство вышло случайным, но было предопределено высшей силой, хотя они видели друг друга еще в колхозной школе. Михаил на шесть лет старше Марфы. Однажды Марфа, четырнадцати лет от роду, время — апрель, возвращалась из церковно-государственной школы, ЦГШ № 2, под проливным дождем. Дождь шел уже несколько суток: бесконечная стена тухлой кислотной влаги. Шигиля вышла из своих пологих берегов и несла — необычно для такого ручья, как она — бурные воды, смешанные с фекалиями свиней. Колхозная свиноферма располагалась в верховьях, отстойник с фекалиями переполнился, прорвал дамбу и вывалил в реку накопившееся за годы. Вот эта Шигиля и отделяла Марфу от дома. Шаткий мостик, висевший обычно в полутора метрах над ручьем, сейчас, с перехлестом брызг и вонючей пены, подрагивал под напором воды. Марфа благополучно добралась до середины моста, когда вдруг увидела на другой стороне худого, как татарский ятаган, молодого лысого парня, стоявшего под упругими струями воды. С кривой ухмылкой глазел он на Марфу. Медленно подошел к мосту и изо всех сил стал трясти перила. Марфа только и успела ухватиться за них тонкой ручонкой, но тут, откуда ни возьмись, стремнина принесла очередную кучу поросячего дерьма, которая, перехлестнув мостки, сбила с ног девочку. Отчаянно барахтаясь, Марфа уцепилась за обрывок проволоки, но не орала, а только злобно смотрела на лысого ублюдка, захлебываясь гнилой водой. Когда сил уже совсем не осталось, злоба во взгляде сменилась мольбой. И в этот момент парень уверенно прыгнул на мостки, протянул ей руку и вытащил, как ту ворону, что мокла под мостом в детских стихах, — жалкую, мокрую птицу — на скользкий берег. Отряхнул воду, мусор, фекалии с прорезиненной военной телогреечки, обнял за плечи и повел к себе в избу. Настоящая же ворона, хрипло каркнув, снялась с телефонного провода и, разметывая капли дождя, полетела в сторону общественной бани — сохнуть на чердаке. В то время в банях еще мылись.
Изба его, срубленная из толстых вековых сосен, была самым большим бараком, отстроенным еще в пору сталинских лагерей, о которых никто уже и не помнил. Здесь счастье из двух мисок с овощами — грубо накрошенными горькими огурцами и бледными помидорами, посыпанными крупитчатой солью, заправленными растительным маслом, — и горячий отвар душицы с мятой и медом соединили их навсегда. Это счастье росло коротким летом темно-зеленой полосой в огородишке. После приема пищи, который завершился «чаем» без сахара, случилась она самая — простая любовь-амор.
Рядом с домиками шатким плетнем была выгорожена большая, примерно двадцать на двадцать метров, площадка. Здесь проходили дружбы и свадьбы. Через три месяца, в аккурат за два года до войны, как раз и сыграли их свадьбу… Традиционную в Шигилях. С песнями и танцами.
Рубленая «на месте» изба стояла сейчас величественно и мрачно. Возможно, такое, мрачное, ощущение вызывало красновато-бурого цвета вечернее небо, его неприветливость после недавних кислотных дождей. В старом, но крепком еще доме, пахнущем сложно и сборно, жило много народу, много народу умерло, и каждый оставил для нынешнего запаха что-то свое. Присутствие многих людей странным образом законсервировалось и еще ощущалось — такое бывает в бревенчатых домах. Теперь старики перебивались одни. Но в их ежедневной жизни, в том, как они оба держались, не чувствовалось ни слабости, ни тоски, ни надлома одиночества.
Ужинать в зимние вечера Михаил и Марфа садились не по-деревенски поздно, в девятом часу. По обыкновению ели сытно, «до брюха», а к ночи — чтобы уснуть: на сытый желудок приходила сонливость. Над столом горела керосинка, желтый огонек жалко дрожал в стекле лампады. По углам лежали тени. Бывало, в лампаду билась (откуда только взялась зимой?) жирная муха. «На свет летит, на смерть летит», — мрачно говорила старуха, а старик ей поддакивал: «Муха зимой — это к покойнику…» Но обычно они ели молча. В печи сипел чайник, лили на картошку постным маслом, окунали в соль черемшу и отрезали себе черного хлеба. Завершали ужин все тем же, как в молодые годы, желтым «чаем» без сахара, без вкуса.
Хорошо жили, спокойно.
***
А сегодня они просидели до сумерек, переливая водку из стакана в стакан по граммуле, упрекая друг друга по мелочам и смеясь над своими воспоминаниями. У Михаила под кадыком образовался ватно-щекочущий, теплый и ласковый клубок. Захотелось кого-то обнять и затянуть что-то сначала тихо, как бы про себя, слезливо, а потом уж во весь голос. Что он с превеликим удовольствием, несмотря на строгий Марфин взгляд, и сделал. Потом он вскочил, оказался вдруг на середине комнаты и стал ходить в такт своему заунывному пению. Штаны его едва не сползали с бедер, открывая часть лобковых волос спереди и начало расщелины между тощими ягодицами сзади. Он ходил так вокруг стола, где осталась сидеть Марфа. А потом глаза начало застилать и щипать. Муж и жена одновременно обернулись в сторону кухни, где всё заполонил белесый дым.
Марфа соскочила со стула, откинув его в сторону, и бросилась к печи. Из-под заслонки валил дым.
— Чо, совсем зенки-то залил! Не вишь уже ничо, кроме стакана! — заорала она из кухни.
— Сама такая! — крикнул в ответ Михаил. Тут же с невероятной быстротой углядел, что Марфе ничего не видно в облаке дыма, булькнул себе в стакан водки и так же быстро, даже не поморщившись, хлопнул.
— Как же мы не унюхали-то? Угорели бы с тобой к чертовой матери, прости меня, Господи, грешную!
— Так ведь я тебе и говорю: не пахнет совсем ничо! Свежий воздух сегодня вокруг целый день. Даже ополоски твои ничо не пахнут! Водка, и та не пахнет! — Он поднес к мятому носу стакан, долго втягивал в себя воздух и, наконец, допил оставшиеся пару капель.
— Это от гриппу. Помнишь финский грипп? Ты два года вылечить не можешь, все кашляшь да сморкашься! Вот и довел себя до такого состоянию. И меня тоже довел! — Марфа тоже втянула в себя добрый кубометр дыма и укоризненно покачала головой. — Нет, не вонят!
Михаил не стал дослушивать старухино бухтение и, пробивая себе дорогу сквозь клубы дыма, вышел в сенки, натянул калоши на стоптанные катанки и с теми же клубами дыма вывалил наружу, в чистый морозный вечер. Запрокинул седую голову в небо и поймал языком несколько предновогодних снежинок.
Ему нравилась зима, лишенная цвета, запахов и красок. Все становилось чисто и стерильно, как в их райбольнице в еще довоенное время.
«Ничо не чую. Все-таки финский грипп», — подумал он и вернулся в дымную избу.
Спать.
А снаружи опять зарядила пурга.
ДВА
Вкузно зольдатику!!!
Ярослав Гашек
«Похождения бравого солдата
Швейка во время мировой войны»
На следующее утро стало понятно, что со вчерашнего дня для них полностью исчезло чувство обоняния. Запахи перестали существовать. И утром, судя по всему, ничего так и не восстановилось. Запахи в застаревшие ноздри так и не вернулись. Грипп финский, чтоб ему!..
Михаил, кряхтя и сморкаясь в кулак, выбрался из-под ремков тряпичного одеяла на полатях и, держась за бок, побрел на улку отливать. Долго стоял, глядя на темно-желтую полосу на утоптанном снегу. Попытался вывести утренний иероглиф. Получилось коряво, неаккуратно, за это в полку можно было и батагов заработать, — но прочитать можно.
球
Мяч
В то утро он, как обычно, направился кормить порося. Пройдя мимо будки Рыжухи, не сразу осознал, что собаки нет, что псина вчера издохла без всяких видимых на то причин. Постоял, тупо смотря на валяющуюся «корабельную» цепь. Было морозно. Воздух — свежий, как никогда — глубоко заходил в ноздри. Старик остановился еще раз, вспомнил вчерашнее отсутствие запахов, горький вкус алоэ в глотке и решил проверить, сработало ли старое средство. Не сработало. Сигаретный дым «Святой Астры» проходил в прокуренные легкие, не оставляя никакого духу в носоглотке. Хэкнул, мотнул головой, но особенно не расстроился: «Не чую ничо, да и хрен с ним, — подумал он вполне безразлично. — Даже лучше — не вонят…»
На обратном пути он привычно остановился в сенях и набрал ковш воды. Ледяная, колючая, обычно она казалась ему вкуснее всего на свете. Вода стояла в сенцах, в старой деревянной кадке, где осенью старуха солила огурцы. Позже огурцы перекладывали и закатывали в трехлитровки, а в кадки наливали воду, принесенную стариком из «колодця». Держали как питьевую заначку, на «всякой случáй»: если в избе по какой-то причине закончится, когда занесет снегом колодец и до Шигили добраться будет никак нельзя. Вода сразу же впитывала в себя вкус многолетних осенних засолок, мариновок. Была вкусна. До боли ломила зубы. Вернее, остатки зубов. Нюрка Черепанова, зубниха, когда была еще жива и прорежала зубы всему местному населению, оставила ему четыре верхних передних и столько же нижних. Коренные зубы были безжалостно вырваны, и поэтому Михаил по большей части жевал передними, быстро стуча челюстями, за что Марфа, смеясь, называла его Коськой — в честь розовоносого кроля, благополучно почившего от падучей прошлым летом.
«Вот дал же Бог такому чуду уродиться, как вода!» — каждый раз бормотал Михаил, осторожно вешая ковшик на край кадушки. На этот раз ему нечего было сказать в морозный воздух. Вода потеряла вкус.
— Марфа-а-а-а! Вода нескусная!!! — истошно закричал он.
— Да ну тя, дедка! — Марфа вывалилась в сенцы, на ходу набрасывая на плечи куфайку. — Это самогонка твоя весь вкус у тебя отшибла вместе с мозгами.
Она взяла в руки ковш, пробила ледку пошире и попробовала сама, страшно вытягивая сухие губы куриной гузкой. Лицо приняло странно-удрученный оттенок.
— И верно што! Че-та мы съели с тобой вчера, личоли?
— А ты штей попробуй своих вчерашних, — засмеялся. — У твоих-то штей вкус никогда не отбить. Это не шти, это, как Володька наш обзывал, суп пейзан! В Париже, когда он этот суп кушал, ему говорили, что в переводе с белофинского это означает «суп деревенский».
Марфа зачерпнула ложкой «пейзан» из чугунка, вынутого из темного лаза печи. Закачала седой головой, удивляясь:
— Хоспидя, прости!
Вкус был, но неотчетливый, приходил не сразу.
— Да нет, показалось! — Михаил попробовал ложку штей-пейзана. — Даже лучше сегодня, настоялись за ночь. — Это он соврал. — Вот запаха-то точно нет. Так его и вчерась не было. А седня вот и вкуса нету-ка.
— Надо нам к фельдшеру съездить, пока тот на Новый год не убег куда, а то мы так с тобой пропадем, как сопли в подоле, — запричитала старуха.
И правда, рецепторы носа не воспринимали никаких запахов. Рецепторы языка не воспринимали вкусов. Совсем никаких!
Михаил понюхал шти-пейзан, низко наклонившись над кострюлей. Потом выгреб пару углей кочергой в надежде унюхать запах. Не было его, запаха. Да и вкус на языке и во рту совсем притупился, и бабкины вчерашние щи проглатывались как куски какой-то аморфной, слизкой массы.
Поздно вечером он вышел покурить на завалинку под окном, прислонился спиной к черным бревнам и стал обдумывать внезапные напасти, свалившиеся на него и старуху. Темнело по-зимнему рано. Большая звезда высвечивала перспективу пустой, занесенной снегом улицы.
Курил — то, что не курилось, не воспринималось ни организмом, ни душой. Так, по привычке и инерции быстро затягивался со змеиным шипением, выпускал дым и криво щурился. Дым застил глаза и неприятно жег их.
Вдруг он вскочил на ноги и уперся взглядом в далекий горизонт. За Школьной горой, там, где должна была быть непроглядная тьма, он увидел всполохи по небу, словно кто-то вдруг включил полярное сияние. Но нет, это было зарево, которое может быть только от пожара. В этом случае очень большого пожара. Горел райцентр. Горел весь — от левой до правой границы. Эти границы, хоть райцентр и был в сорока километрах, Михаил знал. Вон справа, Песчаная гора проваливается в устье двух рек, Ая и Ика — там стояли мастерские местного сельхозтранса. Там и всполохи выше и ярче. Слева —обглоданная карьерными работами гора Лысая. Федьки Перевышина дом там, под горой.
Он повернулся, кинул цигарку на снег, с размаху припечатал окурок валенком и несколько раз стукнул костяшкой в стекло маленького оконца. Недовольная, в исподнем выглянула старуха, мотнула головой — чо, мол, тебе? Михаил ткнул рукой в сторону всполохов. Та сначала не поняла, потом пригляделась, охнула, и через минуту воротца заскрипели по снегу. Вышла семеня Марфа, но не в катанках, а в галошах на шерстяные носки, в накинутом на плечи длинном суконном пальто, простоволосая. Села рядом.
— Похоже, Марфа, к фельдшеру мы с тобой уже отъездили. Да и какой фельдшер пред Новым годом. А сейчас там, похоже, вообще все дворы горят.
— Что же это делается-то, дедка? — всхлипнула, прижалась к нему.
— А черть-е знает!
— Не чертыхайся, старый хрен! Прости нас, Господи! — ткнула его сухим кулаком в бок. — Я с тобой как с ровней говорю, а ты-ы-ы…
Он неловко приобнял ее, чего не делал уже много-много лет, и, повернув голову, уперся своим костлявым носом в седые волосы старухи. Тело Марфы под пальто было хрупким, почти бесплотным. Он втянул воздух. Так и стояли они, как старые влюбленные конь с лошадью.
Голова у Марфы была свежая и не пахла, как обычно, ни дымом печки, ни щелоком, которым она раз в неделю омывала седые редкие волосы, принципиально не пользуясь мылом.
Вообще никто и ничто вокруг не издавали никаких запахов. Ничто вокруг не имело вкуса. Воздух был холоден, чист, свеж и прозрачен, как в детских сказках про зимушку-зиму. И все спокойно — не то, что летом.
***
Летом Михаил почти ежедневно ходил на рыбалку, так он называл свои походы вдоль Шигили с удилищем, справленным из березы, поплавком из гусиного пера и еще советского времени чугунным крючком. Но походы эти его были не за рыбой, так как рыбы после Дня Черного Неба в Шигиле уже не было. Старик просто ходил по дороге и собирал всякую всячину, всякую дрянь, что только ни попадалась ему на глаза, и тащил в дом. Тащил, чтобы потом это все куда-нибудь приладить. Вообще он часто выходил во двор, еще не зная, чем себя занять. Чувство возможной полезности собственного бытия возникало каждый раз, когда он из темных сеней выходил в этот свой зассаный двор. Возникало еще с детства.
Что-то нужно было сделать, чтобы этот и все остальные дни не считались в его шишкастой голове бездарными. Он или ходил по двору и заметал в пыль ногами собачье говно по углам, или прилаживал какие-то досочки, закрывая щели в заборе, чтобы цыплята на разбежались по огородам соседей, чтобы не были сожраны огромными крысами, непонятно на чем, на каком корму вдруг расплодившимися за последние годы.
Из одного из своих «походов» он приволок еврокаганскую противопехотную мину без взрывателя и повесил ее на воротах дома вместо традиционной подковы. Еще он прибивал ржавыми гвоздями всевозможные отвалившиеся доски, дощечки и палочки к постоянно отваливающимся дверям, заборам, крыльцу, оградам — да все в этом доме стало распадаться на мелкие части после наступления Красной волны в их регионе, обгоревший красный гребень которой в хороший солнечный день можно было уже видеть на горизонте.
Марфа же каждое летнее утро занималась огородом. Старуха молчаливо и сосредоточенно набрасывала на редкие кусты картофеля густую мелкоячеистую сеть, потом поднимала ее и забрасывала снова. Сначала могло показаться, что она кого-то ловит, но сеть падала и поднималась без всяких следов улова. Старуха поворачивалась на месте и снова забрасывала в ботву свой невод, и опять он был пуст — только травинки, случалось, застревали в ячейках. Это занятие по бессмысленности — или по непостижимости смысла — было сродни сушению травы на полу в избе. Долго трясла Марфа сеть, создавая вибрацию. Мелкие капли, смешиваясь с утренней росой, ликующим в лучах утреннего солнца облаком поднимались над огородом. Этим Марфа пыталась бороться с вездесущим еврокаганским жуком по рецепту глянцевого журнала для домохозяек «Господний сад»; его в большом количестве экземпляров привезла в свое время дочь Наташа из города № 132.
Старуха часто копалась в своем огороде — копалась в самом буквальном смысле, расковыривая палкой какую-то ямку в земле, долго смотрела в нее, наклонив голову к плечу. А потом закапывала эту ямку все той же палкой. Старик же, наблюдая за ней, довольно щурился, а потом, выйдя из сеней, отходил на пару метров от двери, поворачивался к лесу и принимался мочиться.
Ни одной уборной около домов не было. Здесь давно обходились так, по-простому, чтобы не платить налог военного времени «За отхожие места на открытом воздухе в сельской местности».
Да, летом всегда что-то нужно было делать. Лето занимало время полностью.
Они нормально жили. Как все.
***
«Покурю, личоли», — вздохнул Михаил. Марфа, как и ожидалось, укоризненно покачала головой. Он снова достал пачку «Святой Астры», прикурил, выпуская клубы дыма в сумеречные остатки дня. И снова не чувствовал ни вкуса никотина, ни запаха табака.
Вся округа за Шигелей погрузилась наконец в непрогладную темень и тишь. У петуха и курей будто вырвали языки, Рыжуха примерзшим к земле трупом лежала в глубине огорода, краски погасли, и только некоторые из них — отрешенно-черные — придавали селу обморочно-безмолвный и мертвенный вид.
Огромный небосвод с мериадами звезд навалился на двух маленьких людей, и те очарованно, как в детстве, смотрели на него.
— Новый год скоро, хвилософ ты мой доморощенный, — тихо проговорила Марфа. — Давай, может, елку поставим?
— Зачем? Детей нету-ка, — после долгого молчания ответил Михаил.
— Так помянем их. Год прошел…
— Марфуша, душа моя, вона смотри, вона видишь, там три звезды в строчку лягли ровнехонько так — Гасиапея, это созвездие такое, сто лет лететь не долететь. Когда я малой совсем был, я эту Гасиапею долго рассматривал и назвал ее «Созвездие Палка». Три звезды в одну линию лежат. Вот свет от нея идет, а может, там и нет уже света никакого!
— Да как же это так, Миша? Глаза врут, личоли? — Марфа всплеснула руками.
Глаза Михаила вдруг как-то странно заблестели, и он сам вдруг как бы засветился весь изнутри, вытянулся, выпрямился и крепче стиснул сухую Марфину руку в своей костистой ладони. Хотя ни его и ни её ладони не чувствовали уже ничего. Но было что-то другое, кроме физического ощущения близости, в этом соприкосновении. Так что Марфа сразу поняла и приклонила свою голову к костлявому плечу Михаила. Запрокинула ее кверху, поправив платок на лбу.
— Ну хорошо, значит, вот ты говоришь, Новый год у нас с тобой скоро. Представь себе, что в одной галактике — а галактик мульоны, мульярды… В каждой галактике, представь себе, один мульярд звезд.
— Я таких цифр, Миша, не разумею. Моя цифра не более чем двадцать тенге… Моя пензия то есть…
— Эх, Марфуша, я с тобой как с ровней говорить хотел, а ты — танге-е-е. Ладно, попробую попроще. Вот смотри, муллиарды, в каждой галактике муллиард звезд. Вокруг каждой звезды вертятся такие какашечки, ма-а-аленькие, как после нашей Рыжухи…
— Наша-то Рыжуха, бывало, иногда так насрет, что…
— …которые называются планетами. На одной из какашечек, которая называется Землей, расплодились странные чубрики такие, чубрики, как мы. Говорят, что они люди, но черт его знает, разобраться трудно. И ты мне говоришь, они… — Он опять сбился. — Дальше, как они исчисляют время, годы свои, можно я тебе объясню? Глядя на небеса, где муллиарды галактик с муллиардами звезд и трилльонами планет, всех этих других какашечек всяких, чубрики на этой какашечке исчисляют сутки в зависимости от того, как эта какашечка вертится вокруг самой себя, а исчисляют год в зависимости от того, как эта какашечка носится вокруг их звезды. Звезда, надо сказать, так себе, звезда…
— Звездюлинка? – по-девичьи фыркнула Марфа.
— Точно, Марфуша! Звездюлинка такая, как это сказать, какая-то такая ханышка маленькая, ну правда, несерьезная, так себе звезда. И, значит, они, эти чубрики, говорят: «Вот эта какашечка сделала оборот вокруг вот этой вот фитюлечки, значит, это год. Ну и че? Просто с точки зрения космоса… — Михаил опять простер руку к полному звезд небу, а Марфа опять запрокинула голову. — …Ты смотришь на них и думаешь: «Боже милостивый, Господин Великий Владимир, Дмитрий пресвятый, — вот идиоты». Причем они же время исчисляют какими-то там муллиардами лет, еще что-то. Представь себе, что ты мыла посуду у нас вон там в зеленом рукомойнике, закрыв пробкой сток в раковине. Помыла посуду, у тебя остался какой-то мусор, грязь, какие-то макаронины из райпотребсоюза, там все вместе, все это хозяйственным мылом приправлено. Конечно, да, жирным слоем пены хозяйственного мыла…
— Ой, забыли мыла то на районе купить давеча!.. — запричитала Марфа.
— Пена и все это вместе. — Старик пропустил мимо ушей, захваченный ходом своих мыслей. — Дальше ты открываешь пробку, и эта вода по спирали начинает заходить в умывальник, смывается в поганой яме. Вот за это время на одном из кусочков грязи этой смытой, на макаронине из райпотребсоюза, кусочке макаронины, развивается жизнь каких-то вирусов, которые начинают исчислять время в зависимости от кругов, которые они делают по пути в смывную канализацию. Бред! Вы знаете, мы здесь живем уже мульярды лет, с их точки зрения, понятно, да? Они начинают исчислять время, у них идут какие-то войны, Сталин у них какой-то, Владимир Великий, Дмитрий Освободитель, перед этим еще был пан Шишмовский VIII, какой-то пан был в соседней стране, понятно? На этой же самой макаронине, но с другой стороны был Великий пан Шишмовский VIII. Еще кто-то, какие-то говнюки, которые этого пана Шишмовского изгнали из Речи Посполитой еще в Первую белофинскую, Народную…
— Во Вторую…
— Да, во Вторую…
— Да, я понимаю, дедка. А для меня это макаронина как банный лист, и мне хочется, чтобы она уже ушла наконец в эту погану яму.
— Вот-вот! А ты смотришь, как это сливается в погану яму, и думаешь: «Что-то это… Может быть, их вехотью немножко побеспокоить, чтобы побыстрее?» А оно смывается само, и все. Поэтому все наши с тобой рассуждения о годе… Года нет никакого, Марфа! Год — его нет, года нет! Это какашечка крошечная, микроскопическая, равная примерно капельке пара по сравнению с морем, неразличимо стремящаяся к нулю, это какашечка. Она летает вокруг маленького уголечка, крошечного, микроскопического уголечка, звездюлинки, что называется Солнцем, и вся эта канитель несется в погану яму, понятно, да? И ты исчисляешь это как год? Не смешите меня, пожалуйста, какой год, какой, на хрен, год? Вы вообще… Все эти микробы рассуждают про какой-то год: «Мы сделали уже одно вращение вокруг слива в погану яму — Боже милостивый, Владимир Великий, Дмитрий Освободитель, как нам повезло!» Они хлопают в ладоши, жрут белофинские салаты оливье, пьют «Первопрестольную», ставят елку, наряжают ее святыми орденами партии и радуются этому!
— И мы ведь, Мишенька, возрадовались бы с тобой… Салатов, правда, еще с прошлого веку не едали. А орденов у нас твоих после трех войн на дюжину елок хватит… — вздохнула Марфа.
— Сама ты елка! Зачем? Ты уже летишь в погану яму, все мы летим в погану яму на макаронине из райпотребсоюза в деревне Шигили, понятно, да? А смывают нас в погану яму другие, такие же чубрики, населяющие какашечку другой Рыжухи, царство ей небесное! И самое главное, что они тоже летят в свою погану яму на своей же макаронине из своего же райпотребсоюза, и так далее до бесконечности, Марфуша.
— Как же нам остановиться-то?
— Нет никаких шансов у нас. Да просто надо с восхищением это наблюдать, с восхищением и восторгом.
— И кушать белофинские салаты оливье, — с тоской проговорила старуха.
— Можно кушать, можно не кушать. На мой взгляд, это бессмысленно.
— Господь всемилостив, он знает, куда мы летим…
— Да, он присмотрит за нами… У него фляга не посвистывает, как у тебя!
— Да ну тебя, старый! Хвилософ, сопля в подоле! — старуха сильно стукнула его в бок сухим кулаком, так что Михаил ойкнул.
Встала, крякнула, поправила полы пальто и направилась, шаркая ногами, обратно в избу. На пути пару раз утерла внезапно выступившие слезы. Михаил же остался сидеть, запрокинув голову, вспоминая давние годы, философствуя о смысле «екзистенции». Медленно и забавно мысли крутились в его голове.
«Баба — обидчивое существо, — думал он, — бабы наши вообще не любят подмены реальности, а юмор, все эти шуточки — это подмена реальности. Шутка — это подмена, это подтасовка. Сначала вам говорят об одном, а потом быстро подтасовывают, и заканчивается все другим. И бабе это не может быть по нутру, потому что баба любит сидеть своей задницей на земле, в теплом месте, в гнезде, и чтобы ее не трясло, потому что она не хочет метать икру посередь неразберихи и этих шуток юмора. Если она посередь юмора начнет метать икру, то эта ее икра будет в опасности. Потому что этот чертов юмор — непредсказуемость: ты не знаешь, чем дело кончится. Ну потому что их, баб, и так постоянно воспринимают несерьезно, и нельзя добавлять в этот хаос свою каплю. Дело не в этом. Бабы хотят сделать мир надежным, а значит, лишенным юмора. Потому что в юморе они не знают, чем дело кончится, там фраза начинается с одного, а заканчивается другим. А это неопределенность, которую женщина должна устранить. Женщины, собаки, типа Рыжухи, и дети не понимают юмора. Не понимают шуток! Они лают на сноповязки, велосипедистов, на пролетающие мячи — все вместе, втроем, собака, женщина и ребенок лают на велосипедистов и так далее. Они не понимают странного, им не нравится странное. И поэтому, таких странных, мы, мужики, их и любим».
***
Была бы кромешная тьма, если бы не мириады этих звезд, когда он забрался на полати над печью. Керосина жечь не хотелось, и он лежал и думал о том, что, черт возьми, происходит? Что за странный недуг их с Марфой свалил? Что за болесть? Ну ничего, завтра он определит своей «железной определялкой». И растянул свои сухие губы в довольной улыбке.
Холодная зимняя ночь стояла за заиндевелыми окнами. Гребень Красной волны время от времени переливался зелено-голубыми всполохами.
ТРИ
Богом мы называем все то, что пока еще не
в состоянии потрогать и убить. Но когда это удается, вопрос снимается.
Виктор Пелевин
— Дедка, давай-тко, баню затопим, может, с хорошим паром уйдет все! Ну не ехать же за тридевять земель к фельшеру, чтоб ему сказать, что мы ни унюхать ничего не можем, ни соли от сахара отличить не можем. Вроде район не горит уже, видать, потушили. Сходи затопи.
Михаил сидел на шатком стуле (руки починить никак не дойдут) за столом, некогда полированным, из районного сельмага, а сейчас выкрашенным в коричневый цвет той же краской, что и вся остальная мебель в избе и пол. Он тупо смотрел в окно.
Марфа в это утро подала на стол вяленого хариуса, яешню и молоко, кружку чая, краюху черного хлеба, наломанного ломтями, кусок желтого, как осеннее солнце, масла.
— Ладна, — кивнул головой Михаил, набив полный рот хлебом с маслом.
Сверху, по маслу, он посыпал сахарный песок, собранный в ладонь от раздавленного ложкой прямо на столе куска рафинада. Так он делал в армии. Так многие делали в армии, чтобы хоть как-то добавить сахара в остывающий мозг. Да и просто вкусно! Умирающие в госпитале так делали, чтобы понять, умирают они или еще прокандыбают малёхо: если вкусно, значит, прокандыбают… На эти их изыскания медбрат Чех выдавал свой стойкий военный афоризм: «Ничего. Тяжелые болезни неизлечимы, а легкие проходят сами». Говорят, какой-то там Сталин Иосиф Виссарионович, бывший, доэкзистенционный царь Русской земли, тоже любил хлебом-маслом-сахаром побаловаться.
Сейчас же Михаил делал это в попытке «вернуть скус». Такое, по его мнению, должно было вернуть вкус однозначно. Хлеб как-то странно ломался в руках, так же, как и сахарные кусочки. Их словно бы и не было. Пальцы их не ощущали, поэтому с первой попытки Михаил не рассчитал силу давления ложкой, и кусок сахара, звонко крякнув, разлетелся по углам комнаты. «Вот ведь, едрит-твою!!!» Затолкал себе в рот кусок, но вкус не вернулся. Во рту словно кусок мела побывал или даже известки. Он еще посидел немного, переводя взгляд из угла в угол, потом накинул куфайку и направился во двор.
Поленница дров находилась под крышей навеса сараюшки, в аккурат за собачьей будкой. Дрова были напилены, наколоты и сложены в поленницу много лет назад, когда еще в деревне жили люди, когда еще устраивались немногочисленные дружбы. Сейчас поленья лежали сухие, потрескавшиеся и легкие, в белом серпантине облупившейся бересты.
Михаил, шаркая худыми ногами в стоптанных катанках, побрел к поленнице, на мгновение остановившись около собачьей будки и посмотрев на нее, словно отгоняя какие-то мысли, тряхнул головой.
Он сложил на согнутую в локте левую руку несколько поленьев, пачкая белой берестой выцветший ватник. Он чувствовал тяжесть поленьев, но кожа ладоней совсем не ощущала сухую поверхность дерева. Это было настолько пугающе, что в первое мгновение Михаил даже выпустил пару поленьев из рук, глубоко занозив себе ладонь сухим сучком. Красным рубином выступила темная капля крови и наполнила струйкой глубокую линию жизни. Однако боли не было. Совсем.
Слизнул сухим языком кровь. Она исчезла, оставив легкий розовый след. Но ни язык, ни ладонь не возликовали от соприкосновения друг с другом. Как будто и в ладонь, и в язык была вколота добрая доза новокаина.
Не ощущая ничего в руках, кроме как некоторой внутренней «мышечной» тяжести, он занес полдюжины поленьев в предбанник, сбросил на лавку, затем вернулся и загреб в охабку еще две пары сушняка. «Хватит, поди», — пробурчал себе под нос, заправляя печь дровами. Покряхтел, не ощущая ничего под ногтями, сорвал с одного из поленьев добрый кусок бересты, затолкал под нижний ряд и, открыв заслонку, зажег спичку. Береста занялась мгновенно, густой белый дым пыхнул внутрь бани мощным клубком, прежде чем его опять затянуло в трубу.
Михаил жадно втянул ноздрями этот дым в надежде почуять запах горящих березовых поленьев. Ничего не случилось. Все тот же пустой воздух прошел в легкие, вызвав кашель, но не оставляя знакомого запаха.
Он с тоской сел на пол и, откинув голову, посмотрел на беленый потолок бани с черными полосами гари у основания кладки каменки. Он уже смирился с тем, что запахи исчезли навсегда из его жизни. Так и просидел в странных раздумьях, пока не услышал, как горящие поленья стали разваливаться в топке.
Тяжело встал, опираясь на чугунный бак с кипящей водой, и побрел в предбанник за новой партией дров. Бросил их в печь и снова уселся на пол.
Времени прошло уже достаточно, банька должна уже была набрать жар. На это же указывало совсем запотевшее окошечко, почти не пропускающее света. На окно начинала тяжело давить заоконная тьма. И тут он вспомнил! Вспомнил и улыбнулся во весь свой щербатый рот…
***
Он шарил рукой под нижней полкой. Рука двигалась как в киселе. Она была здесь, и здесь ее не было. Все ощущения превратились в вату, вязкую субстанцию, без вкуса, цвета и запаха. И не было воздуха.
Михаил не мог заглянуть в щель — низко, артритная боль в коленных суставах, старость, черт бы ее побрал.
Наконец пальцы, костяшки, уткнулись во что-то неопределенное. Физически нельзя было определить, что же там такое. Положа руку сверху предмета, он подтянул его ближе и вытащил из щели чуть початую бутылку «Первопрестольной» с портретом императора-президента, святого Владимира, в золотой, вензельной рамке. Откинулся к полоку и запрокинул голову. Дрова в печи потрескивали даже дружественно. Начинало быстро по-зимнему смеркаться, одиноким рыжим пятном на подоконнике окна тускло светила старая керосиновая лампа, да из отверстия печи шел теплый мерцающий свет.
Старик потянул руку к этому свету. Близко, еще ближе. Ничего. Будто бы не существовало этого дружелюбного огня. Он повертел ладони, словно в первый раз увидев их, и понял — что-то не так, когда седые волосы на фалангах пальцев полыхнули маленькими светящимися точками. Он отдернул руку и в сумеречном свете, сощурив близоруко глаза, всмотрелся еще раз в ладони. Сухая кожа покраснела. На мизинце набух волдырь. Но боли не было!
Михаил погладил, легко прикоснувшись, бугор волдыря. Рука чужая, бестелесная, бесчувственная гладила другую, точно такую же. «А вдруг так и надо?» — спросил он себя.
Потянулся к бутылке водки и зубами отвинтил крышку. Зубы чувствовали поверхность, губы же оставались «новокаиновыми». Опрокинув бутылку, он сделал три хороших глотка, судорожно заходил кадык. Едва не прикусив омертвевший язык, прежде чем жидкость прошла внутрь, он пролил себе на щетинистый подбородок добрые сто граммов и матюкнулся. Полость рта же не реагировала на привычный вкус водки. Но вот знакомое приятное жжение постигло его, когда водка дошла до середины пищевода. И сразу стало спокойно и сладко.
Он снова откинул голову. Слишком сильно. Боли от удара не почувствовал, просто голова мотнулась вперед, как у куклы. Засмеялся, закашлялся. Задавил кашель еще двумя глотками. Водка согрела, успокоила.
Внезапно ставшие свинцовыми веки опустились, и на него навалились воспоминания из всех его жизней, которые он прожил. Он вспоминал, как пацаненком, с отцом еще, в начале пятидесятых, катал сосновые бревна для сруба этой бани на косогоре, весь перемазанный и пропахший смолой. Смола неделю не сходила с ладошек, а одежда пропахла лесом на все лето. Пару месяцев обструганные бревна просыхали на раскатанных жердях, прежде чем батя начал рубить сруб.
Прежняя баня была срублена «по-черному», низкая, неудобная. Волосы даже его, не очень-то долговязого подростка, часто становились черными на макушке от сажи с низкого потолка.
Отец решил построить новую баню, «по-белому», пятистенок, когда в колхозе получил должность лесника. Зимой вышел в сосняк на Перевышинской горе, отобрал сухих крепких сосен сколько надо, свалил их и вывез волоком по снегу к избе. Весной собрал дружбу — всех, тогда еще живых и не уехавших родственников, Александр Булатов наладил бензопилу «Дружба», и в пару дней, всем околотком, справили сруб. После этого два дня родственники пили и танцевали по кругу. А летом бати не стало. В Хурмулях, на охоте, его намял медведь до смерти.
Когда медведи, разъевшиеся за долгое лето, добираются до только что созревшей ягоды морошки, они вообще трогаются своим медвежьим рассудком, и для них морошковая поляна превращается в рай земной. Они могут проводить на этой поляне неделю за неделей, если поляна достаточно большая. Забираются в кустики ягод своим медвежьим носом и бороздят их задом кверху, как те свиньи перед пометом.
Вот как раз в этот момент к медведям и нужно подобраться сзади, разбежаться побыстрее и пнуть посильнее под зад. От такой неожиданности у медведя-сладкоежки случается разрыв его бедного доброго сердца, и он падает замертво на райскую поляну. Так вот, отец, не расчитав удара, пнул медведя слишком легко. Тот, обернувшись с укоризной, обнял лесника и слишком сильно прижал к своей волосатой груди. Рвать мишка отца не стал — морошки уже набрался к тому времени. Просто задушил в своих крепких объятиях.
Шигили поминали отца три дня. Пили, танцевали по кругу. Долго поминали. Ведь до Новой Экзистенции отца в Шигилях шибко уважали…
***
До Новой Экзистенции люди жил в ужасающем положении. Как рабы, на коленях. Нет-нет, неправда. На коленях — это значит искренне. Это не рабство, это пресмыкание. Рабами можно быть, стоя смирно. Можно встать смирно, очень красиво, гордо развернуть плечи, и при этом быть рабами. Бывает удалое рабство. Знаете, такое рабство с удалью. Бывает рабство разухабистое. Бывает богатырское рабство.
Новая Экзистенция навалилась нежданно, 21 декабря 2012 года, и пошла быстротечно и непонятно. Все вокруг стало меняться само собой и не поддавалось регуляции. Просто шло и шло. Все ждали, что в новом времени, после побед в трех разрушительных войнах, все изменится. Но и сейчас все было одинаково ужасно.
Что меняется в жизни русского народа? В действительно меняется. Например, 30 тысяч лет назад здесь ходили мамонты, а сейчас уже не ходят. Какие-то вещи поменялись. Мамонтов вот не стало. Динозавров не стало. Какие-то жалкие 65 миллионов лет назад здесь, конкретно вот здесь, прямо у общественной бани села Шигили, ходили динозавры. Сейчас ни одного нет, просто нет, и все. То есть что-то меняется. Меняется в лучшую сторону.
Но положение русских почему-то было и есть абсолютно ужасающим всегда. Когда запускали Юрия Гагарина в космос, люди в городе № 132 вытирали задницу газетой. Ничего больше не было. Но газеты были. В деревне Шигили газет не было — были лопухи. В МосКе была туалетная бумага, жесткая, но иногда и она заканчивалась, и в ход шли все те же газеты. Продукты добывали. Иногда в городе № 132 выкидывали апельсины, все бежали — надо взять. Потому что в этом году больше апельсинов не будет. Вообще, ни одного. Но пока вот они, апельсины, есть — и два дня еще можно купить. А следующие 363 дня придется обходиться без них. Земляника будет местная, картошка на рынке, редька, лук, пенька, конечно, а всего остального не будет. То есть жители города № 132 существовали как абсолютно проклятые люди, проклятые никчемные люди. Это москвичи, каганат московский, зажравшиеся жили, колбасу всяко-разную покупали, сыр голландский с дырками. Сыр голландский местного производства, правда. А те, кто из № 132, не знали такого сыра и такой колбасы. Они знали, что апельсины два дня в году, виноград — один день. А что, какой еще виноград? Иди с дерева сорви. Виноград есть? Нет. Что у тебя здесь, Крым, что ли, идиот?
Несчастные, забитые, на уровне субсистенции выживания люди, которые ездили на омерзительных машинах, если могли их достать. Достать это говно — «копейку», у которой постоянно текли тормоза, отваливались детали и никогда, слышите, никогда не работали дворники. На говеных машинах ездили, жили в говеных квартирах, вытирали жопу газетой. При Юрии Гагарине, и позже, и сейчас. И через десять лет, и через двадцать лет — той же самой газетой. Презренные нищие.
И сегодня мы такие же, один в один. Ни в какой другой стране нет такой гибельности! И ни в какой другой стране нет такой святости!
Но разница есть. И огромная разница! Мы потеряли милосердие, сочувствие, сострадание — нет их сейчас. А тогда были. Люди жили бедно, но духовно собранно. Вот чем то время отличалось от этого. А самое главное — тогда деньги отбирали у людей ради Юрия Гагарина, Белки и Стрелки, до какой-то степени люди были даже рады этому и благодарны. А сегодня наши деньги забирают у нас ради яхт святых, равноапостольных высокопоставленных князей-императоров. Нужна же новая яхта равноапостольному, сколько можно на одной и той же? Второй год уже. Вы же должны понимать! Она уже прохудилась, яхта эта, как старый носок. Опять же усадьба в Средиземноморской Белофинляндии нуждается в достройке третьего конюшенного комплекса. Не будут же миниатюрные лошадки для любимой внучки под открытым небом жить. Их не много, лошадок. Табун небольшой, 26 голов. Коньки-горбунки и лошадки-сладки — каждой по паре. Деда ду-ду, ду-ду деда!
В этом разница. Мы готовы к тому, чтобы нас обирали до нитки ради престижа и величия страны, но мы не готовы или нас до известной степени смущает, когда нас обирают ради новых яхт или миниатюрных лошадок. Но главное — мы согласны, чтобы нас обирали. В этом счастье русского человека. Всегда!
Мы все мечтаем только о величии страны. Мы готовы землю жрать ради величия нашей страны. Мы великая нация ровно потому, что нам на себя наплевать. Мы думаем только и всегда о государстве. Государство должно быть великим, а мы будем жить в говноквартирах, ездить на говномашинах, одеваться как последние подонки и так далее. Лишь бы государство было сильным — вот наша главная идея. Мы все выбираем мощь государства в ущерб себе. Потому что мы самозабвенно служим государству. Мучительство — единственное, что никогда не надоест.
Я помню первый год Новой Экзистенции — лопаты из титана, из оборонных ракет… Все старались купить лопаты из титана, которые подпольно делали наши оборонные предприятия из утилизированных баллистических ракет. Лопату для огорода, чтобы землю копать. Вон одна у нас до сих пор в сараюшке валяется…
***
Михаил очнулся, когда внезапно почувствовал, что положение его головы резко изменилось и, открыв глаза, увидел близко перед собой тлеющий уголек. Уголек вдруг стал трястись — вправо, влево, вправо, влево… Только через некоторое время он понял, что трясется его голова.
Михаил с трудом повернул голову и в мареве дыма увидел свинью, которая мордой толкала его в плечо, поблескивая бусинками глаз. Рядом стояла старуха.
— Живой, личоли? Опять нажрался, хромая скотина! Баню он пошел топить! Хорошо, что упомнила, куда ты побрел. Не то угорел бы тут, налакавшися-то! Сгинул бы, как сопля в засраном подоле.
Марфа, кряхтя и чертыхаясь, тут же требуя за это прощения у Всевышнего и святого Владимира, волоком вытащила Михаила из предбанника, растолкала, отбила все его щеки обледеневшей варежкой снаружи на подтаявшем льду и повела его, грешного, домой. Дотащила до горницы и с облегчением бросила на пол, где Михаил моментально отрубился и проспал до утра следующего непонятного дня.
ЧЕТЫРЕ
Истину узнаёшь, когда ее слышишь.
Михайло Узиков. Аспекты семиполостного землепашенья
Моя речь громка — но ты ее не слышишь.
И не услышишь никогда — и не узнаешь никогда…
Леонид Андреев
«Анатэма»
Утро пришло в тягостном недоумении: одним из самых стойких детских его предубеждений была уверенность в том, что, если летаешь во сне, значит, растешь. Расти ему было поздно. Ни счастья полета, ни обрывающегося, колотящегося ужаса падения он не испытывал очень давно, но вот смутное и тягостное чувство человека, зашедшего не туда, было ему знакомо. Сон тем и был страшен, что это чувство, подспудно отравлявшее ему два последних дня, вышло наконец наружу и могло быть названо. Это не был страх неизвестности или неуют в непривычных местах, но именно сознание того, что его относит дальше и дальше от цели и что на самом деле самой цели нет и никогда не было в его жизни, что она выдумана и выдумана плохо. Цель эта то превращалась в летящий пассажирский самолет, то в окна старой совхозной бани. И все время в прицеле ручного пулемета Дегтярева.
И вот он проснулся этим утром, лежа на полу, от того, что кто-то ожесточенно толкал его в бок. Нехотя поднял тяжелую голову и повернулся на свет. Старуха стояла над ним и толкала в бок сухим крепким кулаком. Тычки ее он тоже не чувствовал, просто от ударов начала мотаться из стороны в сторону голова. Рот же Марфы открывался и закрывался, как у вытащенного на берег налима, но звук доходил с каким-то отставанием, что ли. Он даже не понял, издевается она над ним или судороги ведут лицо? Он наклонил голову, напряг слух и смотрел на нее как через мокрое стекло. Ее лицо колебалось перед ним, оплывая и сглаживаясь.
Старуха не издевалась, и Михаилу пришлось прислушаться к глухим звукам, и в какой-то мере даже читать по губам ее невнятную речь. Тряхнув головой, как в детстве после купания в Шигиле, когда вода или ил забивали уши, он весь напрягся, подавшись вперед, словно приготовился услышать нечто важное. «Чо говоришь-то, Марфа, не слышу ничего! Ты как налим, губами шевелишь, а ничо не слыхать! И зенки чо-то у тебя стали такие надувные», — проговорил громко, как он думал, но и сам не услышал своего голоса и захлопал беспомощно глазами.
Марфа затрясла в негодовании головой, поковыляла за печь, в бабью половину, и через пару минут вышла, держа в руках два огрызка карандаша. Протянула один Михаилу и что-то сказала, широко раскрывая рот и артикулируя сухими узкими губами.
Михаил наклонил шишкастую голову к плечу, пытаясь разобрать, что говорит Марфа. Все бестолку! В конце концов Марфа ожесточенно взмахнула руками, засунула конец карандаша в рот и долго мусолила его на языке. Затем оторвала, поскребя желтым окаменевшим ногтем, кусок газетных обоев на стене около кухонного стола и написала по буквам. «Химический карандаш пиши чо хошь и надоть тебе-ка?»
Михаил, так же помуслякав свой карандаш, такими же корявыми буквами написал ниже: «Яешню». И три восклицательных знака поставил.
К слову сказать, текст статей на обрывках газет, под перепиской Марфы и Михаила, был достаточно примечательным. Это были сводки с полей, заметки с фронтов и всякая другая повседневная газетная ботва не только нового, но еще и прошлого исторического исчисления.
На оторванном клочке газеты заметка пятилетней давности из китайского ежедневника Цао Ша Жебао, свободно распространяемого на территории всех стран, победивших в Третьей белофинской. Как, впрочем, и всех проигравших.
Мужики пытались делать из бесплатной газеты цигарки, но бумага не курилась. Плавилась. Даже в отхожих местах нельзя было ее использовать добрым чередом. Говно она не подбирала, а размазывала по анусу, хоть и не резала, как партийная «Путь Господен».
Однако химический карандаш ложился хорошо, подмасленный слюной стариков, и не растекался, как по полиэтилену.
«…где катанки мои старыя? Я свои в свинарке замочил».
«В амбарушке. Сползай сам, я сама себя худо чустую… Серце не чую»
«давай чаю похлюпаем, личоли?»
Это на обоях из вестника Партии Иисуса Христа «Путь Господень»:
…ера в Христа — это мост в будущее!
…то обращенное будущее в рамках прошлого величия! Тем, кому сейчас месяц, год — мы им не нужны. Ни мы, ни идеи Господа нашего.
И вот те, которые сейчас ничего не смыслят, они будут говорить о нас как о великой легенде! С надеждой, даже если надежда — знак суеты и незрелости духа. А легенду надо подкармливать! Надо создавать и обучать новых проповедников, которые переложат наши слова на иной лад, такие, которые будет чтить человечество через 20‒30 и более лет.
Как только где-нибудь, когда-нибудь вместо слов “Ни-хао!” произнесут “Господь Всевышний с Тобой!” в чей-то персональный адрес, значит, именно там мы начнем наше новое возрождение! Ибо Возрождение — это невоз…
***
Всю их переписку составили несколько сообщений на обрывках старых газетных обоев. Потому что в аккурат после обеда Марфа умерла. Сидела за столом, ела картофель с луком, иногда исподлобья посматривая на Михаила. Потом вдруг тяжело поднялась, накалякала на куске обоев: «Пристала я чо тось, Миша. Пойду, ляжу немного, сала завяду». — «Чо, захворала, личоли?» — Она повернулась, глубоко и хрипло вздохнула, бросила карандаш на стол, пошла в сени, не закрыв за собою дверь. Там легла на полок, даже не убрав наваленные ремки, повернулась к стене и умолкла.
Заметка на оторваном клочке газеты была пятилетней давности из китайского ежедневника Жеминь ЖеБао, свободно распространяемого на территории всех стран, победивших в Третьей белофинской. Текст гласил:
СВОДКА ТАОБАО ИНФОРМ-БЮРО
Объединенные армии Войска Крайовы и Четвертого Христианского Объединения без боя заняли столицы четырех государств — Турецкого Каганата, Союза Венгерских Республик, Жилсообщества Молдавского Братства и Армянской Советской Социалистической Республики.
Мы гордимся вами, воинами Святого Союза Господа и Будд…
Часа через два Михаил вышел в сенцы, потряс Марфу за плечо, дескать, холодно же. Но она уже была холодной, как сам воздух в сенцах. По правде сказать, никакой температуры ни воздуха, ни тела Михаил не ощущал уже несколько дней. Просто голова Марфы не болталась из стороны в сторону, а поворачивалась вместе с телом. Глаза же спокойно смотрели в никуда. Добрый ангел со слабыми тонкими волосами робко-пепельного оттенка: они распадались от пробора на два легких крыла, и сейчас, когда она еще даже не навсегда закрыла глаза, в ее облике проступало нечто от смиренных послушниц какого-нибудь Русского монастыря. И тело ее, очень белое и набухшее, казалось, зябнущее, не отзывалось на его прикосновения.
Сейчас, осознав, что Марфы больше нет, что она так легко и просто ушла от него, он даже не ощутил никакой боли в сердце — наоборот, это было какое-то успокоение, даже некоторая зависть. И он послал благодарность кому-то сверху за такой легкий исход.
Михаил прикрыл старуху старыми ремками, закрыл ей глаза, и, тяжело перебирая одеревеневшими ногами, вернулся из сенок в избу. Накинул на себя куфайку, нахлобучил на голову «пидорку» и вывалился во двор.
«Поперешный, одевайся ладóм!» — словно услышал он голос старухи позади себя.
Он доковылял до сарая и забрался по шаткой лестнице на сеновал, с кряхтением затягивая на ступени то правую, то левую ногу. Разгреб в углу остатки сена, не ощущая ничего своими внезапно побелевшими пальцами, и выволок заверченный в старую промасленную рогожу пулемет Дегтярева, РПД 56-П-322. Внимательно, с уверенным видом знатока, профессионала осмотрел его, наклоняя седую костистую голову направо и налево. Не обращая внимания на полную бесчувственность пальцев, передернул затвор. Затем неловко стал заполнять магазин патронами из вскрытого цинка.
Пулемет этот имел давнюю историю. Он был привезен сыном Михаила, Володькой, со стрельбища 16-го Войска Польского, из Хурмулей. Старый испытанный Дегтярев. Пулеметные диски были заряжены с тех давних времен, когда Красная волна еще только появилась на горизонте.
Для ночных стрельб каждый четвертый патрон в магазине был трассером. Под локоть Михаил всегда подкладывал странный черный круглый предмет, каучуковый мяч, который хорошо держал руку и даже, казалось, уменьшал отдачу. А иногда рука под легким воздействием предмета сама наводила на цель. Очередь ложилась ровнехонько, прямо под прицел.
Черный круглый предмет был мячом. Не надувным — цельным. Пористый упругий каучук, податливый, как титьки Марфы в молодости. Мяч этот привез из самого Паризу все тот же сын Володька, когда брали массовым штурмом, навалом Еврокаган. Еврокаган был нейтральным во Вторую белофинскую и разрешил пропустить войска — тудой, в Париз, — через свою территорию все новосформированые во Внутренней Монголии 183-й дивизии Великого Благословления, в которую как раз и входило 16-е Войско Польское, где сотенным был Владимир.
Мяч Володька-сотник экспроприировал в музее Орсэ. Это последнее, что осталось от разграбленной экспозиции какой-то принцессы Дианы, погибшей в Паризе еще до Новой Экзистенции. По описанию, эта «прынцесса» окочурилась в тоннеле в автокатострофе, и все, что от нее осталось, — этот мяч — было выставлено в музее Орсэ в ее память, как историческая реликвия.
Володя привез мяч из Франции в Шигили и первое, что сделал, — собрал мужиков из Заготконторы и Цехов Державной Сельхозтехники, ЦДС, и организовал первый и последний футбольный турнир «Сцепка тружеников села с рабочей интеллегенцией». Победил ЦДС, и только по причине того, что команда играла в яловых сапогах супротив деревенской заготконторовской кирзы. На игру пришел председаталь колхоза Булатов Александр Михайлович, по-взрослому рассердился на поражение односельчан и велел Володьке засунуть мяч в жопу. В чью — не добавил, поэтому Михаил, в тайне от Володьки, закинул от греха подальше мяч под крышу сеновала. Как раз туда, откуда впоследствии он на досуге постреливал в стены и окна заброшенной районной бани короткими прицельными очередями.
За Володькой же пришли через четыре дня после матча «темные», четверо, в двубортных черных костюмах, пиджаки оттопырены подмышками, и в широкополых фетровых шляпах. Били чулками с песком по почкам, палками по ступням. Спрашивали, куда тот запрятал этот черный мяч, и, ничего не добившись, забрали с собой в новехонькую черную Волгу, ГАЗ-24М. И Володька сгинул, пропал совсем. Ни слуха от него, ни духа не было с тех самых пор.
«Темные» спрашивали Михаила, и за грудки трясли, и в глаза пристально смотрели, но ничего не добились. Просто в какой-то момент у Михаила полностью отшибло память, и он даже вспомнить не мог, с чего они его так беспокоят. Но сразу же после их отъезда память моментально восстановилась, и Михаил тут же бросился спасать сынка, отдать этот злополучный мяч «темным», но, когда взбирался по лестнице под крышу на сеновал, упал с нее и подвернул свою короткую и без того ногу. И провалялся с вывихом добрые две недели на полатях в избе под надзором старухи Марфы. И мяч навсегда остался в собственности старика.
***
Невысоко в небе со стороны Красной волны летел самолет. Розовый двойной след его был Михаилу надеждой и утешением: след этот доказывал, что где-то есть привычный мир, а, кроме того, сама блестящая точка самолета в небе над лесом напоминала, что небо еще не упало. Самолеты летали над деревней часто. Не понятно, были ли они каганатские, белофинские, или наши: неподалеку располагался военный аэродром, который в последнее время, по слухам, постоянно переходил из рук в руки, хотя война закончилась уже год назад. По другим слухам, сюда садились по негласной договоренности все самолеты на дозаправку «левым» керосином, который втихую тырили с трассы международного автобана № 88 Шензен — Турку «черные» бензовозы.
Старик приладил приклад к ничего не чувствующей щеке, прямой и совершенно немой палец лег на курок Дегтярева, под локтем прижился черный податливый мяч.
Первая очередь легла прямо в центральное окно женского отделения бани. Он стрелял, словно давил орехи, не слышал, как звенели, падая на лед, выбитые стекла. Как звенели, падая на доски сеновала, отстрелянные гильзы. В закатном солнце блеснули осколки, да и трассер четко указывал, что «цель уничтожена». Вдруг он почувствовал — нет, конечно же, не почувствовал — увидел, как его локоть под давлением черного мяча попер вверх, вместе с пулеметом резко задрал ствол, и длинная очередь, каждый третий патрон трассерный, до опустения рожка была выпущена в темнеющее небо. Туда, где двигался, упрямо и медленно приближаясь, след самолета.
Этот длинный след словно явился из старых фильмов о геологах, о кострах с пением под гитару, о вырубке просек, о высоковольтных линиях в тайге. Всякий раз, когда он, сидя на завалинке, слышал звук заходящего на посадку самолета или просто видел в небе белую газовую полосу, тянущуюся за еле различимой и неспешно движущейся точкой, это напоминало о быстрых и ненадежных, но веселых временах. И Михаил повеселел. Повеселел от мыслей, повеселел от стрельбы.
Глядя на две белые стрелки от работающих турбин, надвигающихся в сиреневом закатном небе, он вдруг с внезапной радостью почувствовал всю силу того, что случилось с ним за эти несколько последних дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, его сочли бы сумасшедшим. Но для него не было ничего в этом ни страшного, ни безумного. Михаил резко повернулся, чтобы поведать и поделиться этим со старухой, но тут же встряхнулся, поняв, что сидит на чердаке, зажав в сине-белой ладони цевье пулемета и вспомнив, что Марфа лежит с утра в сенях, прикрытая половиком.
Дул ветер, должно быть, сильный, студеный — он не чувствовал, но понимал это по летающим во дворе обрывкам газеты и сиреневой дымки в прозрачном воздухе.
Все было необыкновенно ясно. Он чувствовал, как в ночной темноте, где-то, прости Господи, не знамо где, живут, мучаются, умирают миллионы людей. Но они жили лишь условно. И все, что происходит на Земле, тоже было очень условным. Почти кажущимся. Кажущимся настолько, что вот сделать небольшое усилие — и все изменится! И вот среди этого кажущегося существует твоя живая сердцевина. Это его, Михаила, пригнувшаяся к пулемету фигура. Это возлюбленное им свое существо, которое вышло из мира теней и мчится вот сейчас в воздухе, сопровождая этот самолет высоко в небе.
То необыкновенное чувство любви к себе продолжалось несколько минут. А через несколько минут Михаил, осторожно, будто ступая в воде, спустился с лестницы и двинулся к дому. Ноги были как не свои, он медленно передвигал ими, босыми, черно-синими, опухшими, с черными пальцами. Вытащил из кармана куфайки припасенный обрывок обоев, запалил его с десятой попытки негнущимися пальцами и, как с маленьким факелом, вошел в избу. В сенцах поправил покрывало над умершей Марфой, погладил ее по седым редким волосам тыльной стороной ладони, поцеловал в лоб, ударившись зубами о костлявый череп, но ничего не ощущая. Он смотрел на нее как через мокрое стекло. Будто очертания ее лица колебались перед ним. Оплывали и сглаживались.
Затем, двигаясь словно в жидком масле, кряхтя, попытался взобраться на печь, посмотрел близоруко на свои большие руки, скрюченные артритом суставы, и в первый раз в жизни вдруг подумал: на самом-то деле они красивые. Хотя фаланги всех пальцев были черно-синими, вывернутыми. Они не слушались и отскакивали от полока палатей печи барабанными палочками, когда он попытался зацепиться. Как бы он сейчас хотел услышать этот звук! Тогда он лег прямо на пол, закинул их за голову, закрыл глаза и тотчас же заснул.
Если бы он вернулся в избу несколько позже, пятью-шестью минутами, он бы увидел, что самолет, летевший высоко в небе, который привел его к столь эмоциональным переживаниям, вдруг завалился на крыло, отвесно стал падать вниз и, словно в немом фильме, наконец беззвучно упал за околицей в корявую березовую рощу. Яркая вспышка озарила ночь, горящие куски обшивки разлетались по округе с шелестом снарядных осколков. Один из них угодил в теплую еще баню и немедленно запалил ее. Волной взрыва снесло остатки шифера с пристроя конюшни, где суетливо билась головой о стены и истерично визжала голодная свинья.
Вечером тех же суток у Михаила стало пропадать зрение.
ПЯТЬ
Я не думаю, что кто-то из нас вновь увидит солнце.
Стивен Кинг
«Смиренные сестры»
Утро тяжело рождалось. Оно встретило Михаила лежащим на спине на полу горницы. Там, где он и заснул. Он повел руками вокруг себя, раздвинул ноги. Так делают дети, упав навзничь в свежий сугроб, двигая руками и ногами, создавая солнце.
«Вволю полежал, пора и вставать…» — подумал.
Этим утром он почувствовал, что перестает видеть боковым зрением. Теперь, чтобы повернуться и побрести в сторону, необходимо было поворачивать голову.
С каждым часом зрение словно бы сужалось: просторная комната превращалась в комнату поуже, потемнее. Наконец для Михаила наступил вечер — вечный вечер, часов около восьми. Он мог видеть теперь только то, что происходило в конце туннеля: полоска света и окружающие предметы становились все более расплывчатыми. В голове — тяжелые, болевые толчки. Это произошло к пяти вечера, а сейчас, утром, он ощутил жуткий страх. За эти четыре дня он каким-то образом смог адаптироваться к тому, что лишился четырех чувств. Но лишиться глаз, стать слепым – вот чего он боялся больше всего на свете, с самого малого возраста.
На глаза словно надавили пальцами. Замаячило размытое черное пятно. Пятно приближалось. Затем пропало, появилось снова где-то сбоку, прежде чем исчезнуть навсегда. Сухость в глазах удручала. Михаил поднимал руки и ничего не ощущал ни этими руками, ни веками глаз. Он страстно тер глаза, пытаясь разглядеть что-то вокруг, уменьшить зуд. На сухих кулаках оставались слезы, но он не чувствовал ни слез, ни кулаков.
Если бы кто-нибудь видел его и выражение его лица, то сказал бы, что перед ним ходячий труп с вытянутыми вперед руками.
Как там в Писании-то сказано: «Слепой не тот, кто не может видеть, а кто не хочет видеть и сам закрывает глаза». (Бабкино Писание; он вычитал это, перед тем как скрутить цигарку, вырвав для этого страницу.) Кое-как он выбрался из избы и попытался разглядеть, что происходит вокруг. Но, кроме плывущих черных пятен в глазах, не увидел ничего. Моментами наступало некоторое просветление — так он смог добраться до середины двора. Потом Михаил опять лег ничком — теперь уже на снег, перед будкой Рыжухи, раскинув по обыкновению руки. Лицо его было прозрачно-бледное, с синевой под веками.
Он лежал и думал о детях. О Володьке, которого сразу после окончания Третьей белофинской забрали «темные» при непонятных обстоятельствах из-за какого-то дурацкого мяча. Думал о дочери, ушедшей в город сразу после Второй белофинской. Рассуждал сам с собой о несладкой девичьей доле в России. О его странных и тем не менее близких до слез отношениях с Марфой. Марфой на самом деле уже мертвой — лежавшей сейчас в сенках под ремками. Короче, думал о всем том, чем определял для себя непонятным в обиходе словом «любовь». О том, что у них в селе, да и, пожалуй, везде, где он ни бывал, никто никогда не обсуждал и не выражал своих эмоций. Зачем? Баловство все это! Любовь. Амор… Бред!
Но сейчас, когда тело ничего не чувствовало, не мешали никакие запахи и вкусы, зрение практически исчезло и смотреть было не на что, а мысли стали чистыми, прозрачными, как стекло, он отчетливо представил их с Марфой дочь Наташу. Она уехала из Шигилей одна из первых, когда после Второй белофинской наступило некоторое послабление и у молодых жителей отключили «скрепные» чипы, разрешая передвигаться по стране, а потом даже выезжать в Ближнее, на нейтральную территорию между Россией и Белофиннией, к морю, там, где «тепло и яблоки». Она была красивая девушка, с маленькой грудью, тонкой талией и крепкими ногами чалдонки. В ее присутствии мужики в Шигилях раздували ноздри, мельтешили руками, готовые то ли хватать, то ли честь отдавать, то ли сучить лапками, как мухи. Да, красива необыкновенно, ровно в том смысле, какой и вкладывается в это слово: обыкновенная красота может остановить взгляд, может даже заставить разинуть рот и посмотреть вслед, но не вызывает желания любой ценой здесь и сейчас вступить в то же тайное общество, в котором состоит эта женщина. Ведь она состоит в этом обществе, иначе откуда такая уверенность, ладность? Наверняка как минимум из Каганата или Аркалыка? При виде такой красавицы всегда понимаешь, что где-то есть такие, как она, но мы их не видим, потому что это общество тайное. Тайное общество ходящих по воздуху. Они в любой момент могли из этого воздуха соткаться и защитить ее от всякой опасности. У нее всегда все получалось. Улыбка ее была заговорщицкая. Светлые волосы отливали золотом. Нос прямой и ровный. Лоб высокий. Все черты соразмерны. Не понятно, в кого она пошла. Просто взяла все лучшее ото всех родственников, родителей, теток и дядек, давних и неблизких, живших еще до инцеста Шигилей, еще задолго до Новой Экзистенции. А может, смещение и накладка времени, пространства и всего живого, которое так заметно началось уже после первой недели Нового мира, так помогло Наташе преобразиться.
Наташа перебралась в город № 132, в пятистах километрах от Шигилей, и устроилась на Маслобойнозавод № 6. Поселилась в однушке. (Зарезали мы тогда под это дело порося, улыбнулся Михаил.)
Обычная русская женщина, размышлял Михаил, такая вот, одна в чужом городе, живет в ужасной ободранной пятиэтажке, в которой подъезды изгажены и пахнут кошачьей мочой, в которых двери шатаются. Почтовые ящики — на них какие-то надписи, многие дверцы вырваны, а уцелевшие прокоптились от сожженной почты и листовок Партии Свободной Мысли Христа. Дверь в квартиру Наташи познала много покрасок, старые слои облупились, обнажая проплешины. В прихожей, обыкновенно справа, с ноября стоит мешок или 25-килограммовая сетка картошки — прямо на пути, мешает проходу. Но зато этот мешок внушает счастье. На сколько его хватит? До марта, а может, даже до начала мая? Слева — убогий туалет, совмещённый. Но дело не в том, что он совмещённый, а в том, что там какая-то плитка 50-х годов, еще той эпохи, еще не этого первого Царствования, еще довоенная, добелофинская, даже до времен первой экзистенции какая-то совершенно ужасная, с черным слизким грибком вдоль ванны.
Кран — им можно пользоваться, но надо вот здесь придерживать. Вот здесь придерживаешь, иначе струя бьёт в сторону, заливает пол и моментально протекает вниз, к соседу. Сосед — алкаш уже с пятнадцати лет, который не призван был на войну по причине вялотекущей шизофрении, который, по приказу Комитета Великого Движения, собирает по дорогам рваные покрышки, режет их на куски у себя в квартире и носит на приемный пункт этими кусками в качестве топлива — на Маслозавод-6… Там ими топят печи, и дым идет, как в Освенциме, по всему городу № 132. У него квартира забита покрышками от машин «Грэйт Вол» дальнобойщиков с трассы номер 69, Гванджоу — Хельсинки.
А кран этот снизу всё время перекрывать нужно, чтобы он не тёк. Абсолютно верно! Надо таким круглым металлическим вентилем перекрывать, стоя на коленях, потому что течёт. И его надо вот здесь придерживать — и тогда будет всё хорошо. Но иногда струя бьёт в сторону, в стену, и это очень плохо, сосед этот снизу приходит ругаться и жаловаться. Но он хороший, он иногда, когда не пьян, хоть и редко, пожалеет ее. Бобрик седых волос на отекшей шишкастой голове выдает из него «городского» человека, а не простого шигилинского механизатора. Он обнимет ее иногда, прижмет к своему волосатому телу, тонкие синие вены на его пивных титьках мелко подрагивают, он страстно, как сам думает, облапит ее, обслюнявит, заберется рукой в трусы… И так далее.
Там всюду висят какие-то веревки, по ее ванной комнате, полно всяких веревок, на которых и висят ее ужасные трусы, которые подошли бы проституткам, всюду висят какие-то ужасные, застиранные чулки из полиэстера. Все это паскудное, все это страшное, все это унылое. Постыло все… Она идет на кухню, где пахнет прогорклым маслом. И как-то уютно даже пахнет давно не стиранным халатом. Вот и вся жизнь нашей женщины, русской современницы. Она же на самом-то деле всю свою взрослую жизнь хочет чего-то другого, поэтому она и уехала из Шигилей, хочет чего-то байронистического, чтобы её… Любили, что ли?
Михаил даже как будто почувствовал, как из его глаз вытекло несколько ненужных слез.
А мужик, он что? Смысл в том, действительно, что мужчина стремится… Всегда стремится в гору! Вот есть гора. Наверху флажок. И тебя не пускают. Руками, ногами, лабиринтами — не пускают к горе. Ты должен дойти. Это логика мужчины — дойти. Не спать, не есть — дойти. И он идет, идет, идет… Не жрет, не спит, не пьет, пока не дойдет до флажка. И вот он дошел — дело сделано. Все! И только после этого она влюбляется в него. И мы не можем её за это осуждать. Никак не можем осуждать, абсолютно не можем осуждать! Никогда! Нет, нельзя осуждать. Делать негативный вывод из этого — просто отвратительно. Особенно когда тупо лежишь на спине, лишенный всех физических чувств, на этом зассанном Рыжухой снегу…
Михаил мысленно продолжил свой путь по подъезду хрущевки и задержался на четвертом этаже, в квартире № 12. Когда у них открываешь дверь, то видишь шкаф в коридоре, чувствуешь, прямо «слышишь» эти запахи. Это запахи настоянной кирзы, всюду скомканные паховые волосы, неприятная отрыжка, эти подмышки, всё это сильно прокурено. Наташины соседи эти, сверху, думают, что если вентилировать, открывать форточку, то запаха не будет. На самом деле это иллюзия. Им невозможно это понять. Эти все запахи водки, разлагающейся печени, паховых волос — это не только квартира на четвертом этаже, это большинство квартир в городе № 132. Пусть не большинство — половина.
Заходишь — оторопь берет. Лучшее, что в этой квартире есть, — выщербленные доски на полу. Ужасные, скрипящие. Лучшее, что есть в этой квартире, — на гвоздике пальто. Потому что человек, когда выходит из этой квартиры в мир, надевая это пальто, снятое с гвоздика в стене, кажется нормальным. Если пройти не один метр внутрь квартиры, а целых пять метров, поймешь, что лучшее, что здесь есть, — около двери, а дальше всё хуже, хуже, хуже. Дальше неприбранные кровати, все это воняет кошачьей мочой, какие-то огурцы в ванной, такой же, как у всех, мешок с картошкой у входа. Все это омерзительно, окончательно, невозможно постыло.
И всюду по шкафам спят дети, которые никогда не мылись. Вообще никогда не мылись, понимаете! У них опарыши в жопе, гнойные конъюнктивитные глаза, спутанные волосы со вшами и так далее. Ужас какой-то!
Особенно это прогрессировало на второй год Новой Экзистенции, когда стало уже понятно, что время, по какой-то неведомой (или ведомой немногим) причине, начало наслаиваться. И прошедшие десятилетия и столетия стали перекрывать настоящее и уходить своими корнями в будущее. В вещах, делах, поведении людей. То, что вскоре привело к началу Первой белофинской. К первому — сначала тактическому, а потом и стратегическому — ядерному удару по Норвегии как родине викингов. Викингов, которые в совсем недалеком прошлом гурьбой, судя по историческим фолиантам, пошли на матушку Русь и насиловали наших женщин, убивали из автоматов и пулеметов наших детей, а мужчин уводили в полон. Вторая бомба была сброшена на Финляндию, но не разорвалась, и это-то как раз и положило начало войне. Первой Отечественной белофинской войне. Эти две бомбы были последние в арсенале Великой Руси. Все остальные, по всеобщей договоренности в год начала Новой Экзистенции, были уничтожены, заряды нейтрализованы, а из высвободившегося металлолома страна произвела миллионы титановых лопат. Легких, прочных, удобных. Часть роздали по деревням, часть безвозмездно передали черному рабочему населению Африки, тогда еще нейтральной. Таким образом сбылось пророчество святого Владимира на Втором съезде ПСМХ: «Будьте уверены, что тот, кто не помнит прошлого, всенепременно увидит его повторение».
Так Михаил тихо и спокойно вспоминал дела минувших десяти-столетий. Мысли его прыгали, пытаясь остановиться на каком-то одном воспоминании, но, как и утверждали государственные медицинские светила, в условиях новой эпохи наслаивающихся времен это становилось практически невозможным. И он сконцентрировался опять на «детях в шкафу», поворачивая голову и вдыхая пустой, холодный воздух. Кто они, люди, живущие в городе № 132? Кто они? Я смотрю на сотни окон, которые сейчас перед моими глазами, и вижу сквозь них, как там в шкафах спят дети. Если не сквозь каждое окно, то по крайней мере сквозь каждое второе. Ну, примерно так. Всё это кошмар, кошмар! Они жрут кошачий корм, который случайно выпал из пакета ГосЗверКорма. Эти дети, ползающие по полу, они не разговаривают. Они никогда не были в школе. А может, и хорошо, что они не были в школе. Иначе разучивали бы там лживые речевки. Ходили бы строем во время послеобеденных прогулок по стадиону.
Раз-два, три-четыре,
Три-четыре, раз-два!
А как ноченька пришла, раз-два!
Вылез немец из мешка, раз-два!
Выполз молча с ероплана,
Вынул ножик из харама,
Жупайдияс-жупайдас, раз-два!
Нам любая девка даст!
Ходили бы на уроки Партии Свободной Мысли Христа.
А ведь, возможно даже, Бог и святой Владимир специально хранят их там, в шкафах? Хранят своей верой? Может быть, это люди будущего? Их однажды достанут из шкафов, научат писать, читать, сливать за собой воду в клозете. Какие-то полезные навыки им привьют: надевать и шнуровать обувь, к примеру. К тому времени им будет уже лет по тридцать. И они составят костяк будущего России, эти дети из шкафов. Потому что они цельные, их мозг не травмирован лицемерием, подлостью, скотством. Они честные маугли. Стоит их заставить выбраться из пещер, из шкафов, они смогут стать приличными людьми. В конце концов даже смогут отзываться на кличку. С ними можно построить будущее, мне кажется. У них не засраны мозги лицемерием и подлостью. Мне кажется, они лучше нас. Они лучше нас! — повторил убежденно Михаил.
Но самое ужасное заключается в том, что даже если через тридцать лет этим детям скажут: «Давайте, выползайте, кончилось ваше шкафное время! Впереди свобода!» — они ответят на своем «шкафном» языке: «Мы хотим назад, в шкаф! Нам не нужна свобода. Это ужасное, гнилое изобретение белофиннов — свобода! Свобода ведет нас к горю, к сиротству. Мы думали — вот пришел отец наш и спаситель; а отец и спаситель говорит: “Вы свободны!” — Что значит — свободны? Да мы не хотим быть свободными, отец родной. Дай нам забраться назад в шкаф! Мы верим тебе, береги нас в шкафу!»
То есть мы воспринимаем слова «вы свободны» как пощечину, будто нам по роже надавали, сделал вывод Михаил.
Он повернул голову и прямо у носа различил блекло расплывающийся образ корабельной цепи, к которой годами была прикована Рыжуха. Он высунул сухой язык и попытался лизнуть эту цепь, чтобы вернуть себе яркое детское воспоминание — как он, маленький мальчик, лизал дверную ручку в январе, это было в детском дошкольном учреждении ДетГосСад. Но цепь ускользала, уплывала, а вскоре совсем пропала — Михаил попал в кромешную тьму с проблесками расплывшихся — как хозяйственное мыло, растворенное в воде — пятен. Он опять с силой надавил пальцами на глазные яблоки, пытаясь причинить себе тукую желанную в данный момент боль, но ничего не было: ни боли, ни света. И Михаил вернулся к своим мыслям о любви, о семье, к мыслям о доченьке Наташе как символу этой его любви.
Любовь ведь она не повинуется никому. Мы не можем заставить себя полюбить кого-то. Точно так же не можем разлюбить. Любовь выбирает нас, а не мы ее. Она, доченька, просто хочет, чтобы её байронистическое что-то… Как бы это собрать в мысль (вот бы врач Чех помог сейчас, поддержал бы разговор о Байроне, он ведь ему все эти байроновские книги подсовывал в госпитале)… Какие-то ветры юга пришли, с юга пришли, из белофинского зарубежья, подхватили её, милую Наташу… Чтобы её подхватил этот ветер страшный, этот вихрь, как маленькую девочку, и унёс в страну Оз. Как же звали ту девочку? Да! Элли! Элли вместе с домиком! И чтобы это случилось в каком-то романтическом правильном месте, на нейтральной территории, между этими постоянными паскудными войнами, у моря, под пальмами, где невероятно галантный, как будто белофинн, а на самом деле турок… Турки ведь стали белофиннами сразу после падения Константинополя от Красной волны, но все-таки смогли удержать нейтралитет и сейчас принимали всех на своей нейтральной территории у Зеленого моря. Но ты уверена, что он белофинн? Нет, это турок? Ну, неважно. Где-то как будто даже итальянец, чуть небритый, такой сухой — не как наши жлобы, с пивным брюхом, с дряблой кожей, через которую видна сетка вен, капилляров.
Русский мужчина — он такой хобяк, хряк с опухшим, красным, некрасивым лицом и запахом говна изо рта, и у него на боках в нежных местах кожи рядом с его огромными сиськами, над белым огромным животом с пупочной грыжей проступают эти самые капилляры. Совсем как у соседа по подъезду, с кучей автомобильных покрышек. Он скажет что-нибудь пискляво и захлопнет маленький ротик обиженной складкой губ. Это очень некрасиво, и как-то жалобно-жутко, и тошнотно. И жизнь, и без того горькая, кажется уж совсем паскудной-паскудной.
А этот белофинн, как водится, смуглый, с упругой прохладной кожей, воркующий что-то вроде: «Ти мая каралэва! Ти мая каралэва, Наташа, Наташа! Наташа-а-а! Я подарю тэбе луну и звозды! Всё, что хочэшь, я тэбе подарю! Мамой клянус!» Он говорит, что на один твой сосок можно повесить пальто, а на другой его кепку, а изгибы твоего тела напоминают остров Крит. (Где он, этот Крит…?) И так и рвется этот смуглый воркующий белофинн к заветному месту в твоём теле.
Ты, конечно, в смущении, отдаёшься ему. Ну и что теперь делать? Это нормально. Тем более что это экстракультурно. То есть тебя же извлекли из твоей вонючей, пропахшей кошачьей и не только мочой пятиэтажки, и ты как бы на другой планете. Это экстракультурно, это экстрапонятийно, это за пределами понятий. Ни мама, ни папа, ни подруги, которые постоянно твоему телу завидовали, никогда тебя не осудят. Никогда. И потом — ведь это же и есть счастье, и оно скоротечно, как все вокруг. Потому что постоянно счастливым может быть только слабоумный. Поэтому что ж судить и завидовать…
К тому же в силу своего характера Наташа никому никогда ничего не расскажет. Характер ведь, как трусы, обязательно нужно иметь, но выставлять напоказ не нужно. И это маленькое счастье так и останется с Наташей до самого последнего ее дня, когда однажды ночью город № 132 накроет Красной волной. Последнего дня девочки моей. Наташеньки моей. Когда неведомая, пылающая сила разметает все эти трущобы панельных пяти-девятиэтажек, сровняет их с землей и попрет неостановимо дальше на запад, на запад… А уж из Шигилей в своё время уехать, пусть даже в город № 132, было самым настоящим счастьем.
Михаил, все еще лежа на снегу, повернул голову и постарался сквозь темную пелену всмотреться в белесый, размытый, мыльный горизонт. По краям глаз и не видно уже ничего, темный оплыв, дергается веко. Подумал: вот бы лето сейчас, стрекоз бы вокруг, поплавок на Шигиле, тихое течение, сладость затяжки самосада; а издаля мелодично звучит колокол церквы Царя Единого. Тепло. Даже, я бы сказал, жарко… Михаил улыбнулся. Но потом пойдет дождь, и поймешь, что осень будет обязательно. (Сноповязалку так, кстати, и не починил, старый! — ругнул он себя.) А потом наступит этот паскудный ужас зимы… А потом ты поймешь, что это и есть жизнь. Паскудная, паскудная, паскудная дрянь-жизнь! На этом свете, в этой паскудной стране…
Произведения Байрона, кстати, для Наташиной жизни были официально разрешены в Школьной Программе Центросоюза Церквей, ШколПЦеЦе, как основные в обучении русскому языку и основам российской скрептопонятийности. Потому как царь любил перечитывать Байрона долгими зимними вечерами, сидя в Сахарном.
Михаил вдруг вспомнил, как однажды царь Владимир, в самом начале Новой Экзистенции, еще до всех войн, до начала Великого Движения, в его ежегодном «Единении», еще когда МосКа была Москвой, остановился в Шигилях, на пути в Шестой сектор. Стоял он со свитой в избе Перевышиных, на Бугре. Все было очень тихо и славно. А охраны с царем было ооо!!! Мама не горюй! Целый Второй Кремлевский Краснознаменный Стрелецкий взвод. Но царь всех любил и был любим, потому как хороший был, этот царь Владимир, позднее приписанный к лику святых и ставший в летописях святым Владимиром.
Утром, раненько так, тихо и все такое, просыпался он в избе. С утра пополз туман, плотный, молочный. Только и видно, что кусок забора, а края его исчезали в этом молоке. Царь стоял и думал, вероятно: «Моя Россия…» А кругом будто все шевелится в тумане, шорохи, кашель охраны. Откуда-то еще вынырнула нездешняя (не рыжая) собачешка. Увидела его, замерла. Он на нее смотрел, она — на него. Так и стояли. Потом она зевнула и ушла в туман.
Туман плывет, хариус плещется в свинце воды. Пахнет водой, свежескошенной травой, чем-то илисто-глинистым, гнилостным, но сладостным.
Царь же шел к воде медленно, честолюбиво — словом, царственно. Позади него, в отдалении, двигался неслышно его телохранитель и летописец Микаэль Жван, и дотошно, с литературным талантом, описывал все телодвижения царя в своем маленьком блокнотике, который по сегодняшний день хранится в Храме Христа Спасителя.
И вот царь, обнаженный по пояс, в холщовых белых подштанниках, в это время утра тихо заходил в воду Шигили по пояс. И бил мокрую одежду свою на черных осиновых мостках тяжелой палкой. А рядом стояли лошади по брюхо в воде и, кося глазом, прядая ушами, смотрели на царя. Туман стелился по реке. Царь переставал бить палкой сырую одежду и отирал свой лысый лоб тыльной стороной левой ладони. Тишина стелилась по реке.
Царь, лошади и тишина. Царь, лошади и тишина.
***
Михаил кряхтя (если бы он еще мог слышать свое кряхтение) поднялся на ноги и уже с помощью какой-то внутренней навигации добрался до горницы, потом боком, криво, как старый пьяница на вокзале, упал на пол.
Снаружи опять зарядила вьюга.
ШЕСТЬ
Горе как пьяный гость —
всегда возвращается со слезливыми объятиями.
Стивен Кинг «Мешок костей»
День без чувств прошел незаметно. Да и был ли этот день?
А вот вечер точно был, и солнце уже ушло за опостылевший горизонт. Остался всего лишь сиреневый отсвет, который лег на вершины сосен за Шигилями, и ветви их казались синими, а стволы не медовыми, как днем, а бурыми, словно отлитыми из тяжелой меди.
Михаил тяжело сел на завалинку у ворот. Запрокинул голову — и вдруг с неба на него повалился мягкий снег. Он порхал вокруг совершенно как в детстве, во дворе ДетГосСада «Книяжеский», и так мило было все, в самом деле, совсем как в детстве, когда всё решали за тебя. Как любой ребенок, получивший от воспиталки по голове обухом, Миша испытывал легкое удовлетворение, спокойствие, временное примирение с участью. Князь Владимир, еще до первых императорских выборов, во время поездки по весям, учредил этот детский сад в Шигилях.
И вот Михаил сидел, такой милый, среди этого милого снега. Был он захвачен сейчас и другой стихией — водопадом неподконтрольных мыслей. Никто никогда еще не видел его таким спокойным, но и таким жалким одновременно. С огромными кругами под глазами. Черные, обмороженные ноги стояли на снегу, и снег под подошвами не таял. Любой слабый порыв ветра сбил бы его с ног, поднимись он, и его неумолимо стало клонить в сон. Но чувства его были, хоть и такие, что ли, кисловатые, но чистые, и происходили из них сила духовная и веселье сердечное, без примеси злобства и похоти. Он думал о старухе своей, о Марфе, о Наташе и Володьке, о Рыжухе. Думал о Боге, как его учил в свое время в казарме в Финляндии полковой капеллан. О существе жизненном, как поучал придурковатый чешский врач Чех (он же и философ сам по себе) его, дубового деревенского парня из деревни Шигили. Думал о том, о чем никогда не думал раньше. Мысли его сами легко и сладко лились в голове, перетекая друг в друга и обволакивая друг друга. Проходили скозь темя и уходили в землю через обмороженые ступни ног.
О том, что человеческая любовь не светит, а ослепляет. Не согревает, а лишь опаляет. Ибо основана на страстях. Она есть любовь тела к телу, ума к уму, характера к характеру, личности к личности. Она не знает чего-то главного, в ней мало счастья и много страданий. Эта любовь, если она не освящена чем-то главным, фальшива, неглубока и слепа, ибо исходит от «я», ищет не спокойствия душевного, а удовольствия от привязанности. Человеческая любовь узка, переменчива, полна страстей, основана на эгоизме и легко разрушима. Она подобна опиумному опьянению, поскольку не дает душе ни свободы, ни мудрости. Тот, кто поглощен ею, подобен путнику, провалившемуся в омут. Такому кажется, что он любит, а на самом деле он попал в рабство чувств из-за привязанности, как дикий конь, которого каганатские цыгане хитростью заманили в ловушку, оседлали и взнуздали. Любовь человеческая быстро вспыхивает, а затем с годами скоро затухает и теплится, едва тлея.
Но есть, по счастью, любовь Божественная. И вот она идет к тебе сейчас голубой плазмой, через твое темя, сквозь твою плоть, сердце и душу. Прямо в землю. Ее пламя разгорается постепенно, но с годами усиливается все больше и больше. Этот малый огонь, однажды разгоревшись в верящем сердце, в свое время становится великим, всепоглощающим вселенским пламенем, что сжигает в душе дикий лес эгоизма, джунгли страстей и заросли желаний. Этот огонь не жжет, но согревает, светит, но не ослепляет.
Любовь человеческая разделяет и ограничивает, одних исключает, а других выбирает, к кому-то льнет, кого-то отвергает. Но любовь Божественная не исключает, не разделяет и не выбирает. Она подобна солнцу, которое светит всем одинаково, не разделяя царей и нищих, молодых и старых, некрасивых и красавцев.
Все это лилось в голову Михаила сплошным потоком. Такие мысли никогда раньше не посещали его. Многих слов он даже и не знал, не слышал ни разу в своей жизни. Никогда! Они были новые, чужие. И сладостные в то же самое время. Теперь они вызывали очень странное, пугающее ощущение — словно были все это не его собственные мысли. Он тряхнул головой так, что с нее слетела пидорка, но зато поток внезапно иссяк, и снова наступила пустота.
«А вот я не верю никому и ни в кого! Идите все в вонючую дупу, — так говаривал философ Чех, добавляя: — Ты человек думающий, Михуил!» (Михаил очень обижался, когда Чех так коверкал его имя). Затем он продолжал, таинственно поглядывая на дверь медсанчасти: «Как ты считаешь, Михуил, думающий человек может быть религиозным?
Думающий, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу и святому Владимиру. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров. Господь дал нам свободу воли. И это совершенно другое ощущение. Это не то, что там тобой, Михуил, дерижирует кто-то. Нет! Там есть свобода твоего выбора и свобода твоей воли. Ты владеешь возможностью выбора! Он тебе дает! Все время дает! Каждую секунду! Ты можешь жить в Его присутствии, а можешь жить просто так… И, как говорил герой романа древнего, мертвого вашего писателя Достоевского: “Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан!” Кроме того, если ты вдруг не веруешь, и ты как это… а-а-а… — Он замолчал, вспоминая трудное слово. — Атеист! Тогда ты черезвычайно отважный человек. Жить, зная, что ты исчезнешь совсем — СОВСЕМ! — это какая же отвага нужна! А ведь на самом-то деле, скажу тебе страшную правду, страшно умирать лишь тому, кто не посадил дерева».
Михаил вспоминал все эти разговоры в больничной палате, задрав хрящ носа в безмолвное холодное (а может, и нет) небо. Потом прогнал не понятно откуда взявшиеся мысли. Но на смену им пришли другие. Я — старое дерево, думал он. Я — самое большое и последнее дерево на планете Россия. Меня кто-то посадил. Самое большое дерево живет и растет дольше остальных. То, что бросило вызов столетиям, сохранит жизнь на протяжении столетий. Но придут времена, как это было давно в Первом Пришествии, когда все будут безумствовать. А о том, кто не будет безумствовать, скажут, что он безумен, потому что не безумствует… И может, поэтому, по мне, так все боги одинаковы. Все они убивали людей миллионами. Засухи, наводнения, мор и все такое. И ведь никто из людей против этой резни слова не сказал и не скажет. Потому что эта резня — часть Божественной любви!
Он тяжело встал с заваленки, медленно повернулся, выставил перед собой руку, и та, обрубками трех пальцев, ударилась о повалившийся забор огородишка. Так, сейчас немного направо и три шага вперед, потом налево, а там открытые воротца во двор. А там — как Бог поможет! Подумал сердито: опять — Бог! Ощупью он пробирался в кромешной темноте, словно сквозь топленое масло, разводя руки впереди себя.
Мороза ни впалыми щеками, ни голыми ступнями он не ощущал. Ему даже почудилось, что на этот раз стряслась какая-то оттепель или даже весна. Обычно весь декабрь был шибко студеный, мороз всегда норовил забраться в любые щели, даже в душу. Это всегда настраивало на стойкую битву с ним. А то ведь, как бабка Дарья говаривала: тепло искушает, трезвянь иссушает. Потому как, когда потеплеет уже явственно и по лужам побежит рябь настоящего южного ветра, того ветра, о котором пишутся романтические, фальшивые финские рассказы для детей, может и смерть приключиться на фоне расслабления души и тела. Тогда в клочьях облаков горят уже крупные звезды, и кажется, что это клочья перьев из подушек несутся по воздуху. Вот эта рябь на лужах, представил себе Михаил, и есть то, что я вспомню, когда буду умирать. Ведь буду же я когда-нибудь умирать, и мне надо будет вспомнить, что хорошего я видел. А видел я только березы-свечи, Красную волну в голубых всполохах и еще это небо чернильного цвета. Бывают такие глаза, но крайне редко. У его Марфуши глаза были карие, цвета заварки, у Наташи серые, у Володьки голубые, у него самого… Какого цвета у него глаза? Когда после Первой запретили под угрозой выселения в Грецию иметь в доме зеркала, они видели свое отражение только в слюдяных стеклах окон или в лужах, размытые и нечеткие. Так, седую поросль послюнявить, пригладить. И он забыл начисто, какого цвета у него глаза. А спросить даже и в голову не приходило. Зачем? Ерунда это все. А вот еще бывают глаза цвета этих чернил ночи, но достаются они иногда, прямо скажем, хрен знает кому. Вон, Рыжухе покойной достались! И он шел босой среди летящих клочьев перьев, среди уже весенних, как он себе представил, теплых луж, которые, может, в пару ночей будут еще подмерзать, но хрупко и ненадолго. А так-то казалось, что зима попугала всех несколько недель и всех уже и простила, испугала и простила. Все по человеческой своей слабости уже подумали, что это навсегда, а оказалось — три месяца, ерунда какая-то!
Он не чувствует, не ощушает, не видит, не слышит ничего. Он словно бреет по воздуху. Он бормочет сам себе, что надо искать старуху, что пришло время. Он несколько раз на что-то натыкается, он падает. Боли нет. Только створки двери, препятствия справа и слева, позволяют ему определить, что он вошел во двор. Он идет вперед, падает снова и снова, но опять же все эти препятствия позволяют ему догадаться, что он в сенцах, он дошел, кажется. А вот и Марфа. Вот она, душа моя, думает он с необыкновенным облегчением и радостью. Воздух вырывается редкими короткими всхлипами. Он только сейчас отчетливо ощущает ту разрушительную усталость, которая накопилась в нем в эти последние пять суток.
Тяжело опустился рядом со старухой. Приблизил лицо к чему-то темному, во что уперлись его руки. Пальцы затрепетали. Повел руками, гладя это темное, и вдруг заплакал, опустив руки на голову, завыл как битый пес. Этот вой колоколом бил ему в голову. Он повалился на бок, придерживая бок старухи, и обнял ее, пытаясь закинуть свою худую, босую ногу на сухое старухино бедро. Нога упала, и сил поднять ее еще раз уже не было. Но он продолжал пробовать, пока не добился своего. Едва двигая замерзшими губами, он шептал, нарушая молчание пустого дома и мира вокруг себя: «Марфуша, душа моя, мне так надоело умирать, так надоело!..»
Он говорил ей, что, если бы знал, что сегодня в последний раз видит ее спящей в сенцах, он бы тогда еще крепко обнял ее и держал, как ангел-хранитель. Если бы он знал, что сегодня в последний раз видит, как она выходит из дверей горницы, он бы обнял, поцеловал бы ее и попросил возвращаться поскорее. Если бы он знал, что больше не услышит ее голоса, он бы записал всё, что она скажет, чтобы слушать это ещё и ещё, бесконечно. Если бы он знал, что это последние минуты с ней, он бы сказал: «Я люблю тебя». Он не думает, что она это и так знала. Всегда есть завтра, и жизнь предоставляет ещё одну возможность, чтобы всё исправить, но, если я ошибаюсь, и сегодня это всё, что нам осталось, он бы хотел сказать ей, как сильно он ее любит и никогда не забудет ее.
И тут произошло нечто, отчего он совершенно отчетливо понял, что Бог все-таки есть, и Он занимается преимущественно украшением мира. Внезапно его сознание совершенно просветлело, горячая волна прошла сквозь макушку лысого черепа и вышла струей плазмы через черные обмороженые ступни. Все потеряные чувства вернулись к нему. Он даже побоялся открыть глаза, чтобы не спугнуть это чудо.
В доли секунды он увидел себя маленьким пацаненком, лежащим на спине на зеленой поляне, на опушке березовой рощи. Тонкие белые стволы улетают в небо и там, наверху, звенят синевой. Солнечные зайчики пляшут по его лицу, он зажмуривается и ежится от влажной прохлады.
Вспомнилось, как бабушка Катерина, укладывая его спать в большой черной избе, не протопившейся еще к вечеру, брала ватное одеяло, становилась к жарко натопленной печи-голландке, обнимала ее этим одеялом, чтобы вскоре Михаил уснул, укутанный теплом. Он точно знал, что рано, совсем рано, часов в пять, после утренней дойки, бабушка тихонько разбудит его и протянет в пахнущих сеном ладонях кружку парного молока. Затем погладит его по голове и тихонько уйдет из горницы, позволяя досмотреть внуку сладкие утренние сны.
Запах меда, смешанного с дымом из дымаря, донесся до него. То тетка Валентина колдовала невдалеке над ульями. Дощатые кубы, ярко окрашеные масляной краской — синие, красные, белые, — стояли плотной чередой, как небольшой игрушечный поселок, на краю березовой опушки, там, где начиналось поле желтого донника, колыхающегося под свежим утренним ветерком.
С точки зрения пчелы, она просто живет своей жизнью. И только пасечник, тетка Валя, знает, что на самом деле она собирает для нее мед. Но пчела никогда не поймет это, потому что тетка Валя выходит за пределы ее масштабов мышления.
Вкус свежего, теплого меда во рту сейчас был настолько отчетлив, что под языком моментально скопилась слюна. Он сглотнул ее и почувствовал, как запершило горло. Он протянул руку в сторону, и она, так естественно, наткнулась на дедовскую военную фляжку с родниковой водой. Пить холодную воду! Холодная вода в горле — это главное блаженство, чудо и приключение. Такое же блаженство — первый съеденный кусочек сотового меда. А звон ветра в зеленых верхушках берез — настоящая сказка!
Бабушка Катерина, шаркая по влажной траве растоптаными галошами, подошла к нему неслышно, села рядом, поправив цветастую юбку, и, как всегда, погладила по стриженой голове. Он повернул к ней голову, указал своим тонким розовым пальчиком вверх и сказал: «Бабушка, как красиво. Посмотри!» — «Это Россия, Мишка! Это наша Россия!» И она протянула в потрескавшихся от работы в земле ладонях то, чего ему больше всего хотелось, — пригоршню мокрой от росы красной смородины.
Кисло-сладкий вкус смородины на губах заставил Михаила улыбнуться, он еще крепче обнял мертвую свою Марфу и пробормотал: «Спокойной ночи, любовь моя! И если после смерти что-то и есть, это хорошо. А если нет, еще лучше. Спокойной ночи. Я люблю тебя!» — И заснул. Теперь уже навсегда, покрытый изморозью лунного света.
ЭПИЛОГ
День — это маленькая жизнь,
И надо прожить ее так,
будто ты должен умереть сейчас,
а тебе неожиданно подарили еще сутки.
Максим Горький
Если после смерти что-то и есть
— это очень хорошо.
Если нет — еще лучше!
Томас Алва Эдисон
Время переломилось.
Деревня лежала тихая, битая, спокойная.
Рыжуха вошла во двор, подволакивая правую заднюю лапу. Левый бок был словно ошпарен кипятком, шерсть скаталась и походила на шерсть молодого барашка. Глаза были черными, глубокими, с кровавыми дисками вместо белков.
Было раннее утро, мыльное солнце тусклым белым пятном пробивалось сквозь пелену морозного воздуха. Небо было выцветшее, бледно-серое и только вдалеке тронутое бело-розовой рябью облаков. Холодно и промозгло, но из собачьей пасти не вырывалось ни облачка пара.
Рыжуха принюхалась и огляделась. Дверь в избу была полузакрыта, поэтому она побрела к своей корявой будке и уткнулась носом в пустую плошку. Двинулась дальше по двору. Засунув широкую рыжую морду в проем дверей, ведущих в огород, раскачивая задом, протиснулась внутрь.
Здесь, на месте, где стояла скособоченная баня, громоздились черные головни пепелища, от которых кое-где еще поднимался белый дым. Рядом валялись незнакомые блестящие страшные металлические обломки с красной полосой и черным номерным знаком RSV-12.
Рыжуха заскулила, стала мотать головой из стороны в сторону и повернула во двор. Тупо походила по пустому пространству, тычась мокрым носом в каждый угол и пошатываясь на каждом шагу. Заглянула в дом, раздвинув носом створ дверей, но дальше порога не сунулась. На полу, не давая двери полностью открыться, лежала мертвая старуха, некрасиво раскинув руки, голова вывернута почти на 180 градусов. Рыжуха нервно зевнула и коротко высоко поскулила. Неловко пятясь, отступила от дверей и, прихрамывая, двинулась дальше. Зашла в стойло к поросятам и остановилась как вкопанная. Там в черном снегу голым лежал окоченелый труп хозяина, крепко обнимавший мертвую свинью, обхватив ее обеими руками и закинув синюю ногу на щетинистый грязный бок.
Хозяин уменьшился, что ли, будто сплющило его и пришибло. Раньше высокий и сутулый, а сейчас словно обкорнанный обрубок старого дерева: фигура неуклюжая, покореженная. Лицо сине-белое надулось: то ли вода под кожей, то ли оплыл. Кисти рук тоже стали синими и большими, как у утопленника.
Рыжуха обнюхала Михаила, несколько раз лизнула его синее лицо. Затем, жалобно повизгивая, улеглась рядом, прижавшись к покойнику и положив большую мохнатую голову на лапы.
Так прошло некоторое время. А потом вдруг Рыжуха встрепенулась — уши торчком, потянула воздух, надеясь учуять хоть что-то знакомое. Однако ничего привычного, успокаивающего в новом запахе не было. Она оскалила зубы: под верхней черной губой они блеснули в утреннем свете сквозь пленку прозрачной бело-розовой слюны. Рыжуха истеричное рыкнула, затем тяжело поднялась на ноги и побрела от мертвого хозяина к приоткрытой двери ограды.
Дверь неожиданно открылась, и собака увидела перед собой двух чудовищ. Оба были одеты в сверкающие на солнце «металлические» балахоны, вместо голов — черные цилиндры, лиц не видно, руки и ноги перетянуты ремнями у запястий и щиколоток. У обоих в руках стальные длинные трубки, издали похожие на увеличенные в размерах шприцы, от них за спину уходил тонкий шланг и пара цветных проводов.
Рыжуха, не раздумывая ни секунды, с хриплым рыком бросилась на ближайшее к ней чудовище и мертвой хваткой — откуда силы взялись — вцепилась в правую ногу. Чудовище взвизгнуло и повалилось на свежий снег. Широкий костюм мешал ему освободиться от нападающей псины, игла трубки попала между ног и не давала возможности встать на ноги и достать нож из ножен на широком ремне.
Напарник тем временем опомнился, вышел из столбняка, откинул черное зеркальное «забрало» защитного костюма. Рот широко разинут, даже более узкие, чем у ненавистных татар, глаза таращились дико на неизвестно откуда взявшуюся собаку. Кадык на его шее ерзал, вот-вот прорвет тонкий чехол, а пергаментная желтая кожа лица покрылась пурпурными пятнами. Он несколько раз сильно пнул взбесившуюся Рыжуху, затем схватил за шею и, выкручивая косматую голову, попытался оторвать челюсти от щиколотки своего спутника. Без толку!
Истерически, гортанно и непонятно для собаки закричал пострадавший незнакомец чирийным ртом. Кровь из рваной раны уже заливала снег, морда собаки превратилась в кровавую мочалку.
— 刀!刀!
— 現在,中尉!
— 是的,你 這 麼 慢!
— 現在!
— Нож, Чен! Давай нож!
— Сейчас, господин лейтенант!
— Да что ты возишься!
— Сейчас!
— А-а-а-а!!!
Второй, которого звали Чен, просунул нож в собачью пасть, сбоку, между гнилых зубов, и резко полоснул изнутри. Рыжуха истошно возопила и, заскулив, окровавленной мордой бросилась в сугроб.
Когда в следующее мгновение собака посмотрела на чудовищ, на нее была направлена одна из тонких металлических трубок. Это мгновение оказалось на самом деле последним в жизни Рыжухи, единственной к тому времени обитательницы деревни Шигили, а может, и всей Руси.
Шар жидкого пламени вырвался из иголки шприца, окутал собаку целиком, и пламя изливалось на избитое тело животного до тех пор, пока от него не осталось ничего, кроме кучки серого пепла.
А человек все продолжал изрыгивать из своего аппарата поток за потоком плазменную жидкость.
— 好吧,已有了,
— 感自己“怪物”的手 —是所有必要的傍晚,探索村。如果狗活了下,可能有一些留的人。
— 是不可能的!
— 讓我告你一足部查,中尉。或者,叫了醫生的直升?突然,狗是會傳染?
— 不要 — 他的第一站
— 可以理自己。有必要做的工作!
— 他呼 — 尤其是,正如我的 “單元分二,生了三,才把世界的畫面達到其完成”
— 是的,我位一分二,生了三,
— 第一微笑 — 在世界的全貌只於我!
— Сука!!!
— Господин лейтенант!!!
— Су-у-у-ка!!!
— Ну все, достаточно, ее уже больше нет! Ее уже нет!!! — Один другого тронул за руку. — Она мертва!
Тот, которого назвали «господин лейтенант», остановился и тяжело выдохнул накопившуюся боль и страх из сухого рта.
— Надо к вечеру все село осмотреть. Если собака выжила, может, еще кто-то и из людей остался. Вот она, последняя русская собака, на этой свинячей русской земле! — Он гортанно хохотнул.
— Зря вы обижаете этих добрых животных, господин лейтенант! Свиньи ни в чем не виноваты. — Он оглядел черные избы деревни сквозь стекло маски. — Это вряд ли, что кто-то остался здесь, но проверить, конечно, необходимо!
— Ну что ж, Чен, давай проверим, давай откроем ворота Агартхи! Пришел тот, кто должен прийти, и берет лишь тот, кому дано взять… Мы же с тобой останемся навечно в этой памяти, которую создал Он!
Через два часа все было закончено, черные избы деревни Шигили пылали под послеобеденным тусклым солнцем, как белофинские танки под Константинополем.
Десантники в нелепой защитной униформе шли от избы к избе, от сарая к сараю и выжигали иглой новейшего плазмомета «Хайдан-13» все, что попадало на пути. Большинство бараков, стоявшие десятилетиями в спокойствии и иссушившиеся до крайней степени здесь, в сухом континентальном климате Сибири, несмотря на зиму и мороз, схватывали пламя и пылали как свечки.
Тао и Чен шли медленно, от одного дома, барака и сарая к другим, зажигая срубы, наблюдая, как складываются крыши домов под напором пламени. Они не торопились. Торопиться было некуда. Ровно так же по всем другим городам и селениям этой огромной, но бездарной страны, выигравшей последние три войны с белофиннами, шли подобные группы и выжигали своими плазмометами остатки вымершей цивилизации. Вымершей внезапно, по непонятной причине, за последние пять дней.
В самом начале, при поджоге первого из покосившихся сараев, под ноги Тао с шелестом осколка противопехотной мины вылетел странный круглый предмет и закрутился у его ног черным шипящим ядром. Тао с визгом мартовского кота отскочил на добрые пару метров в сторону и застыл в изумлении. Странно, но именно в этот момент хребет Красной волны на горизонте полыхнул по гребню ярко-зеленым свечением и мерцал так несколько минут. Тао, семеня ногами в окровавленном комбинезоне, подошел к предмету, опустился на колени и погладил протопивший снег мяч — небольшой детский мяч. Он вдруг, как малый котенок, сделался теплым и податливым, и Тао даже ощутил толчки в ладонях, отчего по всему телу его пошла приятная волна тепла и спокойствия. Пристально рассмотрев мяч, бросил его в сетку для трофеев, подвешенную к заплечному ранцу. «Сынишке…» Близоруко сощурившись, посмотрел на Красную волну, на переливы зеленого перламутра под самым гребнем, и улыбнулся щербатым ртом.
А из деревни словно бы вынули и позвоночник и душу — она стала осыпаться на глазах.
***
— Давайте я вам ногу осмотрю, господин лейтенант. Или все-таки вызовем вертолет с медиками? Вдруг собака заразна?
— Не надо, сержант Чен, — остановил его лейтенант, — справимся сами. Надо выполнить задание! — тяжело выдохнул он. — Вспомни, что сказал бы наш учитель Джуан: «Единица делится на два, рождает тройку, и только тогда картина мира достигает своего завершения».
— Да, наша единица разделилась на два и родила тройку, — улыбнулся сержант Чен, оглядывая с пригорка полыхающую деревню. — И наконец-то, спустя тысячелетия, по праву вся Картина Мира принадлежит только нам!
— Если вы хотите приобрести жизнь, — лейтенант Тао пытался выглядеть бодрым для своего подчиненного и поэтому делал наставления из первой главы Устава Войска Польского, который все солдаты должны были знать назубок, — соответствующую дхарне, то не поддавайтесь заблуждениям других. С чем бы вы ни столкнулись внутри и снаружи, убивайте это. Встретите будду — убейте будду, встретите патриарха — убейте патриарха, встретите архата — убейте архата, встретите родителей — убейте родителей, встретите родственников — убейте родственников. Только тогда вы освободитесь от уз. Если не дадите вещам связать вас, то пройдете насквозь. Освободитесь от уз и обретете независимость.
— Щин ку ла, господин лейтенант!!! — Чен вытянулся в струну и по обыкновению задрал подбородок.
Они пошли в сторону полусгоревшей бани, бревна которой были наполнены свинцом пуль из пулемета Дегтярева. Младший по званию, Чен нес оба плазмомета на плече и изредка оборачивался к лейтенанту. Он тихонько подпевал себе под нос строевую их Третьего Гвандонского вертолетно-десантного дивизиона на упрощенном белофинском.
Жупайдия, жупайдас,
Нам любая девка даст!
Даст, даст, как не дать,
Да, почему бы ей не дать?
Даст нам по два поцелуя,
Не кобенясь, не балуя.
Жупайдия, жупайдас,
Нам любая девка даст.
Даст, даст, как не дать,
Да, почему бы ей не дать?
А потом уже продолжал на родном гвандонском:
Бас кизм апипяй,
Син бас масм им баса,
Син баскм кисляринга,
Минда китеринг баса?
Лейтенант Тао шел медленно, немного спотыкаясь и утирая желтый лоб от холодного пота. В углах рта запеклась черная кровь от прикушенного языка. Зрачки его стали черными, а красные ободки вскоре заполнили все яблоко. Он брел по талому от пожарища снегу, едва передвигая ноги. Черный мяч болтался в сетке, прикрепленной к заплечному мешку, и с каждым шагом легко, по-дружески бил по спине, словно бы приободряя путника не отставать. Впереди теплым расплывчатым силуэтом маячил, пошатываясь в его глазах, боевой товарищ Чен. Чен шел бодро, но периодически оглядывался на Тао, улыбался гнилым ртом, убеждаясь, что тот не упал.
И Тао упал. Вернее, вдруг остановился и рухнул на колени. В глазах его потемнело, и на несколько мгновений он полностью отключился от этой жизни, от этой невыносимой боли и тяжести в груди. Но за секунду до того, как Чен вновь обернулся, чтобы проверить состояние своего командира, Тао уже очнулся и тряхнул головой. Его сознание стало как бы просветляться. Во всем теле чувствовалась небывалая легкость. Он, словно заведенный робот с выставки в родном Ченг Ду, попер вперед, догоняя Чена. Но попер, то и дело останавливаясь и до боли в легких глубоко дыша, с каждым шагом обретая силу. Стал видеть все предметы вокруг себя с необычайной отчетливостью и резкостью, будто кто-то нацепил на его нос суперочки. Тао внезапно различил каждую снежинку на комбинезоне Чена, каждый волосок на его мускулистой шее колыхался под легкими порывами ветра при каждом его шаге. Он провел тыльной стороной ладони по рту и понял, что мерзкие коросты отвалились сами собой, а чирьи рассосались. Кроме того, от щиколотки ноги, покусанной мерзкой собакой, в пах и выше начала подниматься горячая волна тепла и странной ласкающей боли. Член в его штанах напрягся, уперся в жесткую ткань униформы, и лейтенант почувствовал, что произошла мощная эякуляция, залив горячей спермой правую ляжку. Идти стало легче.
Вкус крови во рту стал реальным и тягучим. Он понял, что эта вот кровь и есть его жизнь, и надо это чувство передать каждому его соплеменнику, пока все не поймут, в чем главная радость существования. Его взгляд остановился на пульсирующей артерии на шее Чена. Он явственно представил и даже ощутил, как алая кровь толчками пробивает себе дорогу к головному мозгу. Он ощутил соленый густой вкус крови, сейчас уже не только от пробитого языка: пытаясь оторвать взгляд от артерии на шее товарища, он прокусил насквозь свою губу.
Ему потребовалось всего два широких прыжка, чтобы достичь Чена. Глухой яростный рык вырвался из груди, и Чен не успел даже оглянуться, как его лицо было намертво вмято в снег. Тао обеими коленями уперся в спину напарника и за мгновение до того, как внезапно выросшие клыки взорвали его десна и желтыми ятаганами вонзились в мускулистую шею сержанта Чена, а широкие челюсти сомкнулись намертво, раздирая сладкую человеческую плоть, пред его глазами отчетливо встал радостный оскал мертвой Рыжухи, вцепившейся ему в ногу, ее безумные черные зрачки и гнилые клыки, не отпускавшие его щиколотку до тех пор, пока жидкая струя плазмомета не спалила ее рыжую морду. «Последняя русская собака! — восторженно воскликнул он мысленно. — Последняя Русская собака…»
© Михаил Уржаков
Торонто, Москва, Шанхай, Екатеринбург
2016‒2019