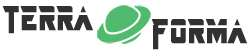Вокруг дома моего толпа. Собрались, огни жгут — праздник, что ли, какой? До Рождества ещё два дня. А вот и Марина, кричит чего-то. Мне кричит? И впрямь, мне!
— Гриша! Гриша, давай в дом! Быстрее, волколак чёртов! А ну, прочь!
Соседей отгоняет? Что это все руками машут? Драка? Рявкнул на всякий случай. Ан нет, показалось. Ну да, народ расступился, пропустил меня к жене. Марина, не оборачиваясь, дверь ногой толкнула, скомандовала:
— Давай домой, чертяка!
Ну как же я пойду домой, когда тут такое? Напирает толпа, хотят чего-то!
— Марина, что происходит?
Не ответила, некогда ей. В соседку веником тычет. Козлеев, глава наш, выкрикнул:
— Марина Игнатьевна, мужа не прячь! Отдай людям! Смертоубийство же!
— Не он это! Говорю вам — не он! Всю жизнь рядом живёте, что вам в голову взбрело? — Марина впихнула меня внутрь, цыкнула на соседей и закрыла дверь. Сразу начали стучать. Я для приличия порычал, Марина только головой покачала.
— Вот люди то…
— Марина?
Жена вспомнила, что я рядом, передразнила:
— Рэ-рэ, ррэ-рэ, человеком обернись, — посмотрела на пол. — Григорий, только помыла, хоть бы лапы вытер!
— Ну так некогда было. Сама меня в избу втолкнула, — уже человеческим голосом сказал, стряхивая остатки шерсти, к неудовольствию супруги. — Что за сходка? Чего хотят?
Марина присела на стул, посмотрев прямо и как-то нехорошо:
— Григорий, скажи честно — ты главврача загрыз?
***
Пал Палыча, главного врача нашей районной больницы, я не трогал. Вообще всячески обходил стороной, после того, как на Новый год, отмечаемый в больнице, был приглашён вместе с Мариной — единственным на всю округу стоматологом. Изрядно выпивши, Палыч поспорил со мной — кто больше съест? Долго думать, как выиграть, я не стал: благо, луна растущая. Обернуться — раз плюнуть… Переживал, что Марину уволят. Обошлось. Вообще — не ладила жена с начальством. Супруга тоже на должность главврача стремилась, да не срослось. Она, вроде как, по всем вопросам зам, спит и видит себя первым человеком на деревне. (Главу за такового никто не считает, а главный врач — должность почётная). И вот Палыча находят мёртвым у себя в кабинете, со следами рваных ран на шее. Уж медики все, как-то определили, что только вот вечером дело было, и окно осталось открытое, снега намело. Почему на меня подумали — ума не дам? Следов убивца под окном не было. Так опять же метель.
Марина стала ИО. Больше некому. Загордилась поначалу, ходила с высоко поднятой головой, распоряжения раздавала, пока не стали шептаться. Прошлым вечером, когда домой я возвращался, луна светила ярко. И главврач этот, будь он неладен. Кто ж его? К счастью, алиби у меня нашлось — соседка Анисья видела, как я во дворе нашем, в снегу, кверху пузом валялся, зайчонка грыз. Как ловил зайца — помню. Как домой принёс — смутно. Чтоб во дворе сам и сгрыз — хоть убей, вспомнить не могу. Ну да с чего б Анисье врать? Вчера, впустив меня, Марина строго спрашивала, я ли Палыча? Честно сказал:
— Да не я это, Марина!
Она усомнилась:
— Григорий, побожись.
— Марина, не будь я нечистью, я б побожился.
Супруга только руками всплеснула, да попросила меня рядом с её одеждой не тереться. Лохматость моя повышенная — вечная проблема нашей семьи. Марина присела на стул:
— Ну я, допустим, тебе верю. А людям что сказать?
— У нас народ хороший, понимающий.
— Вон они, понимающие — у ворот, с вилами стоят.
— Разберусь, я Марина, не переживай.
Вышел к соседям-односельчанам. Поговорили. Они ли меня не знают, не вместе ли росли, в одну школу ходили? Не я ли помогал дикое зверьё отваживать? Не я ли песни пел, красиво так, чтоб за душу брало? Опомнились вроде, стоят, глаза прячут. Кто-то крикнул даже:
— Гришку не трожь!
Тут Анисья и вышла — заступилась. Сказала — видела меня. Всё время я тут был, вот минут пять как ускакал и сразу обернулся. Рассудили, что за пять минут я до больницы если б и добёг, то к этому времени Палыч уже убитый лежал, остывал.
— Да не мог Григорий Иванович, в самом деле! Кто угодно, не он — нечего и думать. На том вчера и разошлись. А сегодня в больнице, в своей каморке, нашли мёртвой бухгалтершу главную, Таисию Матвеевну, с рваным отпечатком зубов звериных на шее.
***
Марина горькими слезами заливается. С Таисией они накануне сильно поругались — не сходилось там что-то к выдаче зарплаты. Перед Новым годом перерасход был — как раз по супругиной зубодробильной практике. Лихо Марина Игнатьевна к концу года освоила весь недоосваиваемый бюджет. Закупила в свой кабинет много штукенций разных непонятного предназначения, да таких, что при одном взгляде и у волка кровь в жилах застынет и зубы заломит. Таисья Матвевна против Марины бучу подняла, дескать, такую главврачиху надо не в больницу, а сразу в богадельню. По миру Марина всех их пустит. А на следующий день Матвевну кто-то порешил. В закрытом на ключ кабинете, где и окно всего одно, и то высоко и узко. Хоть и было оно открыто, кто б протиснулся в него? Я б не смог. Я ж вервольф, а не Гудини.
Они там вроде разбирались, с участковым вместе — кто и как мог в кабинет попасть? Ну так, ключи достать не сложно. Все в деревне знают, где они висят — у охранника на посту. Охранник — дед Федот, божится, что с места не отлучался, за ключами следил строго, к слову сказать, меня, серого, тоже не видел. И на том спасибо. Начали подозревать кого из своих. Участкового пинать — как так? Второе убийство. И опять в нашу с Мариной сторону косо смотреть. Только я дома был, во дворе — выл невыносимо громко. Анисья подтвердила. Луна светит ярко, а время перед Рождеством какое тёмное — два дня кто-то люд честной, как честной — больничный, в клочья рвёт, и убивца найти не могут. Участковый репу чешет. Деревню снегом занесло — помощи ждать — разве что после праздников, когда дорогу расчистят. Вот те, бабка, и Новый год. А сегодня ночью ещё одна беда приключилась — напали на любезного моего тестя — Степана Никанорыча.
Никанорыч сразу к нам прибежал. Говорит, рычание слышал. И ляцкало что-то в ночи. Пришёл со мной серьёзно говорить. Злой, как чёрт. А я, как назло, из дому отлучался. Деревню патрулировал — думал, авось на убивца наткнусь. Вот и доказывай теперь, что ты не ты, и зубы не твои. Поговорили. Плохо поговорили. Степан Никанорыч уверен, что я это был, хотел на тот свет его свести. При Марине, дочери, разговор завёл. Выгнала меня Марина из дому. Сказала, сначала батю осмотрит и сама тут разберётся. За что Гришку на мороз? А там, не поверите, мороз лютый. Начал было:
— В такую погоду хороший хозяин собаку…
— А ты не собака, ты дикий зверь. Шуруй!
Не любит меня Никанорыч. Никогда не любил. Давно это началось. Я ж единственый вервольф на всю деревню — знают местные, нет других, выродились все. Да и кто б со мной связался? А Марина, умница и красавица, из соседней деревни приехала. Когда увидела меня, сказала:
— Привет, Волк, ждала тебя с детства.
Отец её только с досады плюнул.
На морозе думается хорошо. Кому выгода от этих смертей — Марине моей. Только она ж никогда, ни при каких, в это не поверю я, хоть она и стоматолог — страшный человек. Ну а кто больше всего за Марину радеет, ну, кроме меня? Батя её, Степан Никанорыч. Он столярничает, для больницы многое делает. Ему зайти — выйти — раз плюнуть. Не обратит внимание никто. Дочь главным врачом никак бы не стала — чужаки они, хоть и давным давно здесь. Палыча и труп не остыл, как бухгалтерша начала Марину поджимать, а теперь вроде как против неё слова сказать некому. Чего ради дочери не сделаешь? Только вот на трупах рваные раны находят — а меня никак не посадят. И решил Никанорыч против меня свидетельствовать? Нападение выдумал? Ох, не поверит мне Марина!
Вот с такой версией, сделав круг по деревне, решил сунуться я домой. Выждал, естественно, когда тесть выйдет, в дверь поскрёбся. Впустили. А дома чисто, тепло, пирожками пахнет. Есть такая черта характера у супруги — готовить, когда нервничает. Заметил вдруг — цветы на подоконнике стоят. Красным огнём горят. Что за диво зимой?
— Марина, что за веник?
— Не видишь? Цветок расцвёл.
— Тесть принёс?
Марина фыркнула:
— С чего бы мне папка цветы дарил? От поклонника.
— И взяла?
— Взяла. От тебя не дождёшься.
— Зачем тебе эта трава, Марина? Я тебя мяса принесу. Зайчатину свежую, кабанчика.
— Цветок этот, Гриша, у нас уже больше месяца на окне стоит. Молочай Прекрасный называется, или Рождественская звезда. Ты ж весь подоконник шерстью засыпал, пока высматривал, кто там по улице пройдёт, а подарок не заметил. Уходи, Григорий.
Как это мне из своего же дома уйти? Рассказал Марине, что думаю — батя её решил меня подставить. Нападение инсценировал. Молча выслушала, головой покачала.
— Следы зубов твои — как ни выкручивайся. Неспроста гоню из дома, придут за тобой. Как бы тебя народ не любил, какие ещё нужны доказательства? Ты на всю деревню — один волк. А зубы твои я узнала. Не хотела верить — да уж больно на папиной руке чёткий отпечаток. Я и по карте зубной сравнила. Уходи, Гриша.
А что это мне про отпечаток Никанорыч ничего не сказал? Не предъявил, скажем так, прямую улику? Жена только рукой махнула — дескать, нормально, Григорий? Моего отца покусал, так ещё сказки рассказываешь. Опять выгнали на мороз. А про цветок успел спросить:
— Я вроде такой где-то уже видел.
— В кабинете у меня есть. Пашка принёс.
— Уборщик ваш?
— Да.
Ишь, кивнула и отвернулась.
— Так это он не по служебным обязанностям, а подарил, что ли?
— Он мне их много подарил. Я по всей больнице расставила. А вообще, романтично это, Гриша. Такой цветёт только зимой.
— Намёк на твой возраст?
За что в Григория Ивановича веник полетел, Григорий Иванович так и не понял.
***
Ну не на улице ж почтенному Григорию Ивановичу ночевать? Благо, есть друг закадычный, Петро Лексеич. Посидели с ним, обмозговали, что к чему? Выслушал он версию про тестя и серьёзно так спросил:
— Слушай, Иваныч, а если твоя Марина сама тебя подставила? Одна или в сговоре с отцом?
— Никогда не поверю.
— Следы зубьев твоих на трупах нашли?
— Рваные раны, как если б зверь порвал. Точнее не разберёшь.
Заходили мы с Мариной, и с участковым, конечно же, на место преступления. Можно уж было или нельзя — другой вопрос. Но я всё своими глазами видел. И у главврача, и у бухгалтерши картина похожая: дверь закрыта, окно настежь. А на полу, почему-то, шерсть моя валяется, и листья какие-то, красные. И шерсть моя, волчья, и, как будто бы, укусы на телах. И убейте, други, не помню я, чтоб дома, во дворе, сидел обе ночи. Подводит что-то головушка. Зуб не тот, глаз не тот — не страшно. Но чтоб не помнить, как домой вернулся? А если, действительно, в больнице был, карьеру супруге устраивал?
— Я тут, Гриша, книжку, читал.
Вырвал Лексеич из тяжёлых раздумий, я переспросил:
— Ты, Петро, и читал?
— Григорий, по-твоему, я вообще книжек не читаю? «Собака Бас ест Вирлей» называется, или как-то так. Там, как раз, про псину здоровую.
— За что Гришку псиною? Не обижай, Лексеич — последнее дело друга в беде псиной обзывать.
— Не перебивай. Я книжку прочитал и вспомнил — внучка моя мультик смотрела про это же самое — так в мультике переиначили! И у нас, здесь, также могли. Слепок кто-то сделал с пасти твоей зубастой. Ну и кто, как не жена твоя стоматолог и тесть твой столяр? Не удивлюсь, если он сам челюсти и выточил.
И не хочется признавать, а ведь жёнушка моя, как-то, по осени ещё, слепок моей челюсти делала — клык я ломал. Малось переоценил себя Григорий Иванович. А если батя слепок этот, того, себе забрал? Лексеич, тем временем, продолжал:
— Ты, Иваныч, на супругу думать не хочешь. Но вряд ли батя её один, без помощи справился. А даже если и так, когда она всё поймёт и прикинет, неизвестно, на чью сторону встанет.
— Всё же, Марина Игнатьевна не при делах. Зачем тестю нападение на себя инсценировать, если не Марину против меня настраивать?
— То-то и оно. Двоих людей дикий зверь загрыз. Перед Рождеством, когда, известно, тёмные силы беснуются. И это у нас-то, где на всю деревню один дикий зверь — ты, Григорий Иванович. А так как тебя всё не схватят, тесть твой сам себе отпечаток поставил, чтоб против тебя свидетельствовать. Поди сейчас, пока мы тут пьём, у участкового сидит, объясняется. Только чужак он, Гриша, не поверит ему народ. А вот тебе народ верит… до поры до времени. Луна сегодня… — Лексеич посмотрел в пустой стакан. — Ты это… надумаешь кого загрызть, уж старого друга не трогай.
— Я б посидел ещё, Петро. Если кого сегодня загрызут, хоть будешь свидетель, что не я. — Махнул рукой. — Но засиживаться тоже не дело. Разобраться надо, что происходит. Так что, Лексеич, пора и честь знать.
Никонорыч — мужик злой. Но что интересно, к участковому не пошёл. Только что я проверил — нет следов его в сторону участкового хаты. Значит, тесть про зубастый отпечаток, якобы мой, никому, кроме дочери, не сказал? А Лексеич думает на Марину мою? Ну, допустим, супруга — женщина волевая, не погнушалась. Убрала ненавистников, дорогу себе к служебному полноправию расчистила. А я как же? А как же — “ждала тебя с детства”? Решила благоверная от меня избавиться? Действительно, куда она тот слепок дела? Вроде ж говорила — выбросила… И тут всё в одну картинку и сложилось.
***
Пашку этого я с поличным застал. Клумбы он свои возделывал в тепличке. А точнее, зарывал что-то между грядок. Удивительное дело — вокруг зима, снег в свете луны искрится, а за стеклом тепло. Жара, можно сказать, особливо в волчьей шкуре. Дверь не дверь, когда спешишь, а тут дело не терпит отлагательств — так что, почтенный Григорий Иванович, тушей своей свыше центнера весом, разбил окно. Не ожидал Павлуша, не ожидал. Стоит, лопату из рук выронил, шепчет едва:
— Сквозняк же, погибнут звёздочки мои.
А вся теплица как огнём горит. Рождественские звёзды распустились, листья раскинули, полыхают.
— Гибнут звёздочки от сквозняка! Листья скидывают.
За цветочки переживает, а под ногами мотыга валяется, и к ней садовые тяпки приделаны, а заточены — аж сверкают, что мои клыки. Да и клыки мои, точнее, слепок с них, тут же, рядом.
— Ты мне зубы не заговаривай!
Дошло до меня: это он садовые инструменты приспособил, чтоб звериные когти и клыки имитировать! И листьями красными кабинеты Палыча и бухгалтерши были завалены неспроста. Окно убивец открыл, шерсти насыпал. А заходил через дверь оба раза — ключами своими отмыкал. Уборщик — профессия для таких дел самая подходящая. Распахнутые двери и окна — вот и сквозняк, вот и загубил убивец и людей, и цветочки свои ненаглядные.
— Ну что стоим, смотрим? Слепок челюсти моей в мусоре нашёл, прибрал и начал под меня яму рыть? Изверг.
Молчит, глазами хлопает.
— В рот воды набрал? И ждал же до Рождества! Какого лешего двух людей загубил? Мало Палыча, главврача, так ещё и бухгалтершу, тётку Таисию? Вредная она была баба, а всё же человек.
Опять молчит.
— А … за что на тестя моего напал? Он тебе как поперёк дороги встал?
И тут я догадался, что не понимает меня Павлуша! Не разумеет по волчьему. Луна за тучки спряталась, перекинулся я в обличье человечье.
— Павло, ты людей на тот свет отправил? На жену мою, Марину Игнатьевну, глаз положил? Решил её главврачом сделать, а меня в тюрьму? Зря ты, Павло, со мной решил тягаться!
Изменился Павлуша в лице. Полез под рубаху, что-то сорвал с себя, в нос мне тычет.
— Не докажешь ничего, нечисть потусторонняя, не докажешь! Не подходи, вот крест — серебряный!
Чудак-человек, в сказки верит. Посмотрел я на небо — прояснивает. Лунный диск из-за тучек показывается. Успеть надо человека вразумить, пока не поздно ещё, пока не рассвело.
— Не докажу, говоришь? Мне, Павлуша, не надо ничего доказывать. Я, Павлуша, тебя просто съем.
***
Скрипучий мороз за окном. На стёклах узоры рисует, старается. Снег скрипит, односельчане бегут куда-то, шумят, от холода спешат укрыться. Ну так, Рождество. А мне хорошо, я дома, пью чай с малиной, смотрю в окно. В печке дрова трещат, Марина Игнатьевна на кухне хлопочет. Подбежала, пироги на стол поставила, села напротив:
— Григорий Иванович, как всё обернулось в итоге-то! Кто мог подумать, чтобы Пашка? Вроде душа-человек. Цветочки всё рассаживал…
— Про тестя не пойму. Божился Павлуша, что отца твоего не трогал.
— Признался папка. Ты, Григорий Иваныч, на батю моего не серчай. Боялся папа мой, что это ты — душегубец, и меня ненароком со свету сведёшь. Людей грызёшь, и всё тебе с рук сходит — алиби, свидетели. Утащил папка твою стоматологическую карту у меня из кабинета, зубы твои перерисовал и парочку выточил, чтоб след на руке оставить. Мне показал, а участковому, видать, забоялся, или передумал — решил тебя постращать и тем и ограничиться.
— Ишь, Никанорыч, чего учудил. А с алиби моим что? Убей, не помню, чтоб сырого зайца во дворе грыз. Не водится за мной такого. Да и чтоб выл, маловероятно.
— Спутала тебя Анисья Никитична, уже потом потихоньку призналась, что мог быть ты, а мог быть и пёс наш, Полкан. Он любит кверху брюхом поваляться. А шерсти твоей везде полно — на одежде и обуви, как ни чисти, остаётся. Я в больнице работаю, стерильность быть должна. Вот Паша в этом молодец, старательно всегда мой кабинет убирал.
— И шерсти моей нагрёб.
— И слепок с челюсти твоей, видимо, из отходов выудил.
Павла я не съел. Так, постращал, конечно, не без этого. Уборщик в ту же ночь к участковому побежал и во всём сознался. Сидит теперь под замком, ждёт, душегубец, чтоб распогодилось, и дорогу расчистили — в город его повезут, властям сдавать. С тестем ругаться не буду — хотел батька дочь свою от меня защитить, стало быть. Но уже поздно защищать — раньше не получилось, сейчас и подавно. Вышел на улицу, подозвал Полкана, потрепал псину по загривку.
— Ну что, дружок, выручил? Не ты, подняли бы меня в тот же вечер на вилы!
На небе ни облачка. Выяснивает. Звёзды одни кругом. Вот и Рождество. Красоты везде! Особливо дома у меня — супруга старается. И цветок тот выкидывать не стала — так и горит огнём на подоконнике — рождественский этот молочай. Пущай горит, не жалко.