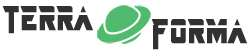Сгустились серые тени, и мир, прислушавшись, замер.
Не было ничего животного в том вое, ибо не было больше животных. Давно безжалостный прозрачный хлад укрыл собой тёмную землю, превратив всё, что было в ней живого, в мёртвые заиндевевшие статуи. Давно обнял безмолвный белый мороз беспокойные волны на зеркалах океанов и отнял у них движение; хрустальные гребни, колючие от инея, стали надгробиями подводной жизни. Давно опоясала небо вечная стужа, и давно растворился в ледяном воздухе крик последней птицы.
Но в безумстве того воя, что ввергнул в ужас всю пустошь, не было и человеческой природы, ибо не было больше человечества. Глубоко под черными землями и серыми водами, смешанными с пеплом, тысячи стальных убежищ превратились в вечные могильники, и вакуум стылой тишины навсегда окружил ледяные тела.
Мир забыл людской голос, стёр из памяти звуки животных — и теперь только смерть кричала ветром на бескрайних ледяных пустошах. Но содрогающий небеса неистовый вой, невыносимо пустой и беспощадный, заставляющий серый снег останавливаться, а землю — роптать, был не один в гамме умирающего мира. Ещё были шаги.
Шаги человека. Последнего на всей Земле.
Он дрожал, как и всё, что было вокруг, и мысли путались в его голове. Разодранные в клочья бледные воспоминания далёкого прошлого смешивались с погасшими чувствами из настоящего, и тем он думал, глядя на бескрайнее грязно-серое полотно, которое надвое не делил даже горизонт. Всё сливалось в одно, и такова была новая ледяная природа.
Но неоднородный рыхлый звук скрипящего, усыпанного сажей снега нарушал собой всю симметрию пустоты и смерти. Шаги нарушали. Человек нарушал.
Медленно переставляя окоченевшие от лютого холода ноги, неохотно продвигаясь вперёд, он чертил на ровной пустоши борозду, что разрывала однородное серое пространство и становилась новым горизонтом. В этом огромном мире человек был один, и даже солнце не составляло ему компанию: сквозь грузные, низко нависшие тёмные облака, наполовину состоявшие из пепла, белый свет едва проходил, и землю не грело его тепло.
Своим страшным воем завыл ветер позади человека, и мир опять встряхнуло. Суровые потоки воздуха пришли в движение, а вместе с ними вверх взметнулся и снег. Грязный от сажи, он окрасил прозрачный ветер, и чёрные завитки восходящих вихрей появились на сером полотне пустоши. Они тянулись выше и выше, пока снежные иголочки не коснулись самых облаков. На фоне необъятной, исполинской спирали ветра, связавшей небо и землю, весь мир выглядел крошечным, а человек — ничтожным.
Он остался один, и отныне природа, пусть и мёртвая, заледеневшая, властвовала над ним: она больше не боялась. Больше не ощущала гнёта бесчувственной промышленности. Не была заложницей безликой цивилизации.
Боялся человек: теперь за его спиной не стояло семь миллиардов — только пустота и вихрь воющего ветра, которым отныне не мог управлять никто. Все технологии исчезли под слоем снега вместе с обломками городов… и людей.
Но месть природы ещё не свершилась: последний представитель жизни продолжал дышать. Брести вперёд и рвано, испуганно дышать, в тревоге глядя по сторонам, неотличимым друг от друга. Он был упорен, хоть упорство его не имело смысла. Что он найдёт впереди, кроме смерти? Что, кроме снега? Весь мир словно насмехался над ним. Пусть не борется больше.
Тогда чёрный воющий вихрь накренился, и тяжёлые ветры, наполненные сажей и льдинками, понеслись вниз, на человека, и на землю, и на снежные холмы. Вся скорость, вся мощь природы затаилась в ветрах, и человеку нечего было противопоставить этой мощи.
Когда резкий порыв замёл борозду-горизонт, когда ударил по человеку и толкнул его в сугроб, когда укрыл его слоем снега, вихрь помчался дальше и ещё не угасшей силой поднял с холмов весь снег. Поток воздуха, насытившийся чёрной сажей, взмыл в тучи и завыл там. На этот раз как от страха.
Человек, погребённый под колючими иглами снега, лишь сокрушённо всхлипнул. Обжигающе ледяные слёзы потекли по его лицу, но облегчения они не принесли — только новую боль, которую никто не уймёт. И никто не поможет подняться. Никто не раскопает снег и не протянет руку помощи.
Содрогающийся в рыданиях, человек хватался посиневшими грязными пальцами за стылый снег, но тот, сухой, просто рыхлился. Даже не таял, ибо не было в тех пальцах тепла, как не было в снеге хоть малой опоры, какую искал и в какой нуждался человек. Вся материальная опора — сгорела. Вся духовная — замёрзла. И надежда тоже стала замерзать…
А потом в рыхлом снегу пальцы нащупали что-то твердое. Невыносимо холодное, металлическое и очень тяжёлое: такое, что не поднять. Окоченевшие пальцы едва ощущали плоскую шершавую поверхность и округлый угол плоского предмета. Человек, не выпуская угол из руки, с трудом поднялся, и снег ссыпался с его головы и одежд, которые уже давно выцвели, истлели и превратились в разрозненные лоскуты, беспорядочно связанные между собой. Они, хоть и защищающие от холода, выглядели совсем безобразно, но теперь уже не было разницы: всё равно никто не увидит. Никто. Даже солнце.
По своим белым онемевшим щекам человек размазал слёзы и ощутил, как мороз превратил их в тоненькую ледяную корочку, что с еле слышным звоном откололась от кожи и, упав в снег, навсегда затерялась среди таких же льдинок и сажи, больше никому не нужная. Эти слёзы не нужны были даже человеку.
Он, хоть его пальцы посинели от холода и почти полностью потеряли чувствительность, всё держался за угол странного предмета, а второй рукой разгребал сыпучий снег, не отрывая взгляда от ржавого металлического листа. Кое-где на нём сохранились пятнышки чёрной и белой потрескавшейся от времени краски, кое-где под слоистой ржавчиной тянулись рельефные углубления, такие знакомые человеку. Он отбросил в сторону ещё пригоршню снега и бережно провёл ладонью по обнажившейся половине таблички — другая её часть уходила так глубоко под снег, что раскопать её не было возможности.
«Добро по…», — гласила первая строка на табличке. Углубления в металле оказались буквами.
«В Мо…», — гласила вторая.
Человек замер на миг. Он прошёл поваленные ударными волнами леса, присыпанные снегом, замёрзшие речки, озёра, холмы и ледяные болота, но только сейчас осознал, насколько большое расстояние преодолел. И вот его награда: ржавая табличка-указатель на город, который пал первым. Город, жителям которого повезло не увидеть всеобъемлющий пожар, казавшийся вечным, и раскалённые искры, что взлетали до самых облаков; снег из легчайшего белёсого пепла, опускавшегося на землю ещё много дней; огромную пустошь выжженной земли вместо руин собственных домов. Человек выбросил за спину несколько десятков пригоршней снега и наконец прочёл полное название города. Города, от которого осталось только узкое кольцо полуразваленных улиц — и восклицательный знак после названия.
Добро пожаловать!
Над тучами, напуганный, опять завыл ветер, и снежные иголочки, что он поднял с холмов, полетели вниз с едва различимым свистом. В новом мире сажа была вечной спутницей замёрзшей воды, и воздух не заблестел, а лишь потемнел. Грязно-серые льдинки всегда падали на снег беззвучно, просто теряясь среди такой же серой массы, но теперь, когда обнажилась половина таблички, к вою ветра примешался и глухой звон: колючие снежинки ударялись о рыхлую ржавчину и даже вонзались в неё.
Человек спрятал ладони под свои одежды и задрожал сильнее — до боли в ослабших мышцах. Ни холод, ни голод, ни жажда не выматывали так, как вечная, не прекращающаяся ни на минутку дрожь, от которой изнывало всё тело. Лишь постоянное движение могло немного утихомирить её, но движению тоже нужны были силы, каких у человека оставалось всё меньше.
Он, пошатываясь, встал, и в глазах потемнело. Тьма эта предвещала начало его мучительного, покрытого снегом и льдом конца. Когда последнее живое сердце — когда его сердце — перестанет биться, когда восторжествует смерть, тогда настанет эра вечного холода и завершится эра вечного ужаса: больше никто не сможет его испытать. Мир уже забыл звуки жизни. Скоро забудет и саму жизнь.
Тёмные пятна перед глазами человека растворились в серости пространства, и он наконец посмотрел далеко вперёд, куда указывала табличка. Посмотрел и не поверил самому себе: вихрь, когда поднял с холмов весь снег, когда взмыл к тучам, завыв словно от страха, обнажил городские руины.
Холмы были городом, и город был разрушен. Серые, кирпичные дома превратились в свои пустые оболочки, смотрящие на открывшийся мир разбитыми дверными проёмами и чёрными окнами, вверх от которых тянулись грязные полосы сажи — пожары не гасли много дней после удара. Высокие красивые здания превратились в одноэтажные развалины — и в груды из обломков стен на улицах. Старые ржавые автомобили с облезлой краской были напрочь завалены и раздавлены. Иногда меж кирпичей выглядывали почерневшие из-за огня когда-то и замёрзшие теперь человеческие останки. Вся величественность города пропала, и он превратился в жалкое, убогое подобие себя.
Человек пошёл к руинам, вновь ощущая холод слёз на щеках и подбородке. Они падали и застывали, не коснувшись земли, и их навсегда прятал рыхлый серый снег, что с неестественным шорохом расступался перед старыми ботинками, измазанными сажей. Ничего чистого не осталось в мире, и чистыми не были даже слёзы человека, который, ближе подходя к городу, всё сильнее прижимал руки к своему лицу и всё неохотнее смотрел вокруг. Он был здесь много лет назад, когда город стоял целый, и воспоминания те не стёрло время, отчего было только больнее. Больнее смотреть на обгоревшие и холодные тела, лежащие там, где давным-давно кипела жизнь.
С каждым новым шагом человеку открывалось больше и больше кошмаров катастрофы, больше людских смертей. Кого-то падающая стена застигла в автомобиле, кого-то на земле — и обугленная, но заиндевевшая рука, словно прося о помощи, выглядывала из-под бетонной балки. Где-то виднелась стопа, где-то — целая нога. Где-то каменная плитка была окрашена бурым, где-то чёрным… На головы человек старался не смотреть.
Тишина городских руин была страшной, а ещё страшнее казалось нарушать эту тишину — и человек, дрожащий, замедлил шаг, как только ступил на заледеневший асфальт. Каменная крошка и угли покрывали его там, где не покрывали груды обвалов, и, как бы плавно ни перемещал вес человек, как бы он ни старался, по улице всё равно эхом разносился треск. Этот резкий отрывистый звук так выделялся из привычной тишины, или воя ветра, или скрипа снега, что человек чувствовал вину. Вину за то, что нарушил покой этого места. За то, что не мог помочь всем погибшим здесь людям. За то, что жил сам.
Человек так глубоко зашёл в развалины, которые уже мало узнавал, что снежная пустошь показалась ему чем-то далёким и совсем не реальным. Ветер выл слишком высоко, а снег шел лишь там, у таблички, — и природа больше не властвовала над последним своим представителем. Он был там, где ничто не могло ему навредить. Он был под защитой погибшей цивилизации.
Сквозь пальцы, крепко прижатые к лицу, человек посмотрел за чернеющую дыру, что была когда-то окном дома, и тут же подавил в себе болезненный вскрик: из-под бетонной плиты к окну тянулись две крохотные обгорелые ручки. Тянулись прямо к нему. К последнему человеку. Эти маленькие застывшие пальчики словно просили его поднять плиту, молили унять боль и холод, вдохнуть жизнь в раздавленное тяжестью тельце…
Человек схватил себя за волосы и часто-часто задышал, делая слабые шажки назад, к центру заваленной улицы. Его взгляд заметался между детскими обгоревшими ручками и чьей-то заледеневшей ногой, между ручками и чьей-то головой, чьими-то полузакрытыми глазами. Они тоже молили о помощи.
Но уже было поздно.
Сердце человека заколотилось в груди, и он, согнувшись, взвыл. На серый асфальт полетели замёрзшие в полёте слёзы и тёмные клочья волос, вырванные онемевшими грязными пальцами. Капля за каплей, прядь за прядью, человек выл всё громче, пока не закричал. И крик этот вмиг разлетелся по каждому уцелевшему дому, по каждой улице мёртвого города, и — по кратеру в его центре. Мир задрожал, ужаснувшись, и далёкая снежная пустошь задрожала тоже. А человек всё кричал, и кричал, и кричал, и в голосе его была такая сильная боль, такая тоска и такой ужас, какие никто бы не смог вынести. Никто бы не вынес. Никто не вынесет. Больше некому радоваться и некому плакать. Кроме последнего человека — некому.
Его крик вдруг надорвался и сломался, но он продолжил хрипеть и рыдать, не отрывая взгляда от обгоревших людских останков. Сильная резь в горле смешалась со жжением в мышцах от дрожи и болью в голове от напряжения. Все эти люди умерли давно, но о них есть память! Люди умерли давно, но остались живы — и останутся таковыми, пока живы воспоминания. Их до самого конца будет хранить последний человек. О каждой трагедии — большой и маленькой — останутся в его голове мысли.
Но о самом человеке не будет помнить никто. Он одинок. Совершенно одинок в этом пустом чёрно-сером городе, окружённый лишь кирпичными стенами и замёрзшими людьми, просящими о помощи, которую никто не может им оказать. И уже никогда не сможет.
Человек обхватил ледяными ладонями собственное горло и зажмурился. Боль в связках, боль в голове, боль в мышцах, боль в душе — последняя была самой сильной. Больно было от осознания собственной слабости, и беспомощности. Вся его жизнь, теперь уже слабая и ненужная, болела.
Вдруг донёсся откуда-то из центра звонкий женский смех. Человек заторможенно повернулся на звук и посмотрел так далеко, как мог, но разрушенные дома с обвалившимися этажами всюду закрывали вид, переграждая собой другие улицы, тоже разрушенные. Ударная волна никого и ничто не пощадила, но и время, и ветер играли свою роль, превращая город в ещё большие руины. Превращая в пыль.
Смех, такой манящий, живой и непривычный, повторился. Крикнуть бы! Отозваться бы! Но человек сорвал весь свой голос… и забыл верные слова. Больше любой болезни и холодной смерти он боялся только безумия, отчего и не говорил ни с собой, ни с мёртвыми. Хоть они могли услышать, человек всё равно молчал, внутренне борясь с одиночеством и тишиной. Сложные слова медленно, но верно покидали его память, оставляя только простым, которые тоже постепенно растворялись в забвении. Мысли в его голове превратились в образы. Образы тусклого прошлого и ледяного настоящего.
Человек обернулся на обгоревшие детские ручки и, вновь ощутив вину за жизнь и ответственность за воспоминания на своих плечах, пошёл на смех настолько быстро, насколько позволяли остатки сил — и вереницей потянулись мимо него руины домов с заваленными дворами, где под обломками виднелись ржавые крыши машин и поваленные деревья, до которых не добрался огонь. Таких не было много, и чёрные угольки всё время хрустели под растрескавшимися резиновыми подошвами.
Квартал за кварталом, серый заваленный двор за двором, человек продвигался вперёд сквозь завалы и буреломы, чувствуя, как холод, исходящий от кирпича, проникает внутрь сквозь одежды и заставляет уставшее сердце биться чаще, на износ. Но всё зря: пальцы ног и рук уже не просто посинели и онемели, а перестали двигаться, и держать голову и спину ровно становилось только труднее. Усталость и сонливость начали одолевать его.
Вновь раздался впереди женский смех. А вместе с ним, только справа, мужской. И детский — слева. Человек переступил бетонную балку и оглянулся, не останавливаясь. Так много людей вокруг смеются, но… где это — «вокруг?» Где все? Средь бесцветного битого кирпича, смешанного со ржавчиной и чёрной сажей на уцелевших стенах, средь матовой угольной и блеклой цементной крошки, средь сухой посеревшей древесины никто не выделялся ни движением, ни цветом. Где же, где люди?
Внимательно глядя по сторонам, слушая голоса, тут и там возникающие, человек не заметил, как закончилась дорога: развалины преградили путь. Широкий и длинный дом, некогда многоэтажный и красивый, с лепниной снаружи, осыпался, и даже стены первого этажа едва стояли. Старинный бурый кирпич не справился с ударной волной, и его слоистые обломки теперь мешали человеку пройти. Мешали даже посмотреть дальше: все окна оказались завалены.
Человека клонило в сон, и было холодно и больно, но он ступил на камень, выступающий из обвала. Затем, помогая себе полностью онемевшими ладонями, на следующий. Каждое движение замёрзшими стопами возвращалось сильнейшей пульсацией в ногах и долгой, тянущей болью. Каждое прикосновение к пальцам, утратившим подвижность, превращалось в невыносимое жжение, растекавшееся по рукам. Слабость внутри резко контрастировала с колотящимся сердцем, и от этого было ещё хуже.
Но он боролся. Боролся с завалом, поднимаясь всё выше по смёрзшимся бурым кирпичам. Боролся с собой, преодолевая преграду из последних сил. Боролся со страхом, потому что понимал, что смерть дышит ему в спину. Боролся, чтобы хоть увидеть людей и узнать, что не он последний, что не на его плечах лежит ответственность за воспоминания обо всём человечестве.
Человек возвысился над грудой обломков и посмотрел вперёд. Туда, где минуту назад смеялась женщина и где когда-то был центр города. Туда, где теперь простирался бесконечный кратер, дальний край которого терялся в серой дымке.
Туда, где не было и не могло быть никаких живых людей.
Человек взобрался на вершину обвала и, полусогнувшись, посмотрел далеко вниз, за уцелевшую часть дома. На крутых склонах кратера, которые ещё можно было увидеть, лежали отдельные стены, груды серых, чёрных и бурых кирпичей, белых блоков и — чуть блестящее, расплавленное пожаром стекло. По всему кольцу обрыва на поверхность выходили сотни проржавевших металлических труб, подставляющих своё пустое чёрное нутро тучам, что были наполнены пеплом. Удар нарушил газовые системы города, и огонь бушевал ещё дольше, чем должен был. Ещё дольше он сжигал всё: деревья, кусты, вещи в домах людей, самих людей.
Давно это было, давно огненный хаос разрушения охватил планету, и сотни метеоритов сгорели в атмосфере, а десятки — раскололись и усеяли Землю кратерами. Тонны пепла и пыли давно взметнулись в небеса и закрыли собой Солнце, Луну и звёзды. И давно хлад сменил собой пламя, и свёл с ума, и убил всех, кто выжил. Почти всех…
Позади, совсем близко к человеку, раздался смех. Затем ещё один. И ещё. Женские, мужские, детские голоса — десятки голосов смеялись искренне и живо, как до разрушения, но что-то странное было в этих звуках. Человек тряхнул головой, пытаясь убрать серые пятна, пляшущие перед глазами, и прислушался.
Голоса приближались, но не трещали ни угли, ни кирпичная крошка. И эхо не разлеталось по сторонам и не возвращалось назад. Могут ли люди перемещаться так тихо? Могут ли они не оставлять за собой эха? Полный надежды, человек обернулся.
И на заваленной улице, в нескольких метрах от себя, увидел лишь силуэты, сотворённые пеплом, ветром и тенью. Они дрожали, колебались из стороны в сторону и, смеясь, приближались к промёрзшей груде обломков, на которой стоял, полусогнувшись, человек. Не может быть, не может быть, что это всё — лишь выдумка его разума! И пепельные тени-люди, и голоса… Их голоса! Голоса казались такими настоящими…
Человек испугался: теперь в безумстве звуков и приближающихся видений он находил лишь опасность — и потому шагнул назад. Пепельные силуэты захохотали ещё громче, и хохот этот больше не казался ни добрым, ни искренним. Он таил в себе угрозу и отмщение за миллиарды смертей — и одну жизнь.
Человек засипел от ужаса и сделал ещё один шажок назад. Может, это лишь ветер, поднявший пыль в воздух, свистит так, будто смеётся? Может, это всего-то пятна перед глазами и простой шум в ушах? Или ветер, и пятна, и пепел, и шум вместе?..
Нет. Это холод и смерть свели последнего человека с ума. Заставили увидеть то, чего нет, и почувствовать вину за то, что он изменить не в силах.
Силуэты резко взметнулись вверх, за одну секунду преодолев все кирпичи, которые человек преодолевал много минут, и закричали своим страшным криком перед его лицом, и обрушились на него ветром, и пошатнули обломки под его ногами.
И захрипел человек, неспособный кричать.
И потерял равновесие.
И, не имеющий больше опоры и поддержки, полетел вниз, на крутой склон кратера, усеянный острыми трубами и обломками.
Мир затих лишь затем, чтобы через миг эту тишину вспорол яркий хруст.
Слабый вдох следом разнёсся по кратеру.
Человек широко открытыми глазами посмотрел на пепельные тучи и вновь услышал невнятный голос — и стук кирпичей, и треск угля. Звуки перемещались, то усиливаясь, то затихая.
Но то были игры холода и свихнувшегося разума — так решил человек. Решил, и глаза его закрылись, и боль его растворилась во мраке смерти.
И не услышал человек человеческих слов, о каких мечтал все дни, что был один.
«Я буду помнить…» — гласили те слова.